так как ни отца, ни мачехи не могло быть дома в это воскресное утро: отец,
наверное, как всегда, в колхозе, где у него не бывает ни выходных, ни
праздников, а мачеха либо на базаре, либо в церкви, куда она тайком ходит,
несмотря на запреты Карналя.
услышать этого Андрий Карналь, он, к счастью, был дома и рубил возле сарая
сухой тальник на растопку печи. Как был с топором в руках, вбежал в хату,
увидел гадюку, которая и впрямь уже целилась на печь, бросился на нее,
рубанул топором, рубил и змеюку, и лежанку, наверное, выгонял из себя страх
за ребенка, а может, и ярость на эту старую никчемную хату и всю не очень
удавшуюся жизнь.
выбросил изрубленную гадюку во двор, а потом зашелся таким горьким плачем,
точно оплакивал не только свою вероятную гибель, но и смерти всех таких
невинных, отданных в жертву стихиям и судьбе.
наконец оставили глиняные развалины старой Колесничихи.
так же, как братья Кривокорды. Но если Кривокорды скрывались где-то в
плавнях и жили рыболовством, охотой и кузнечным делом, выковывая мужикам
такие невиданные ножи и изготовляя к ним такие колодочки из черного дуба,
все в медных заклепках, что ни в каком самом большом городе таких не купить,
то Мины жили посреди села на Булыновке, занимали довольно просторную хату с
большим огородом и садом, но не пахали и не сеяли, жили, как говорится,
точно птицы небесные, тем, что пошлет случай, и беззаботны были тоже, как
птицы, хотя, наверное, даже птицы обиделись бы, узнав, что кто-то отважился
сравнивать их с такими лодырями, как Мины. Было их трое: Иван, Василь и
Сашко, а еще сестра Одарка. Никто не помнил их родителей, с малолетства все
Мины росли под присмотром их соседа Митрофана Курайдыма (настоящей фамилии
Митрофана никто не знал, а прозвали Курайдымом за то, что у него были
слишком короткие ноги и он так причудливо выворачивал ступни при ходьбе, что
вслед за ним поднималась пыль, как после целого стада коров. Кроме того,
там, где появлялся Митрофан, словно бы пахло смаленым, тянуло дымом, потому
и прозван он был: кура и дым - Курайдым). В коротконогой, неестественно
удлиненной фигуре Курайдыма было что-то медвежье или бычье, силой он обладал
тоже нечеловеческой и благодаря силе, а также благодаря своему
попечительству над братьями Минами держал их в руках, принуждал к
послушанию, а послушание у Курайдыма означало только одно: воровство. Сам он
не крал никогда и ничего, только переваливался на своих коротеньких ножках
да высматривал, где что плохо лежит, а потом посылал туда кого-нибудь из
братьев Минов, забирал себе львиную долю, оставляя братьям и сестре только
на пропитание, чтобы они не зажирели и не избаловались слишком. Все в селе
об этом знали, но, во-первых, Мины никогда не попадались, а во-вторых, они,
мудро и предусмотрительно руководимые Курайдымом, никогда не трогали
наивысших крестьянских ценностей, к которым относятся лошадь, корова или
какой-нибудь рабочий инвентарь, - ограничивались только мелочью. Лишаться и
ее тоже никому не хочется, но прожить можно: кусок сала, курица, поросенок,
дерюжка, выброшенная сушиться, кусок полотна, разостланного на траве для
отбеливания, связка пряжи, моток шерсти, крынка сметаны, свежеснесенное
яйцо. Человек от этого не обеднеет, а бедным Минам все какой-то пожиток.
не увидишь! Но никто не мог понять, почему они не сговорятся против
Курайдыма и не покончат с его жестокой диктатурой, тем более что все братья
были здоровы, как львы, ленивая сила так и переливалась в каждом -
невысокие, широкоплечие, неторопливые, всегда настороженные, они, казалось,
могли справиться с целой толпой, не то что с одним Курайдымом. Наверное, им
мешала неимоверная лень, из-за которой они никак не могли прийти к согласию
между собой, сплотиться, и Курайдым, зная это, бил их поодиночке, бил за
малейшее непослушание и сопротивление, бил озверело, уже не до синяков, а до
черноты на теле.
запуганными, старшего же, Ивана, все это словно бы и не брало, он всегда был
какой-то развеселый и полный безудержной изобретательности. Правда, Курайдым
еще в детстве так избил Ивана, что у него нарушилась речь, он не выговаривал
некоторых звуков, и у него выходило: Ваий - вместо Василь, Ояйка вместо
Одарка.
неглубоко, копали криницу, напивались свежей воды и зарывали только что
вырытое. Такова была причуда у Ивана.
воспользовавшись этим, долго сидел у лампы, читал книгу. Он научился читать
очень рано, но сразу же столкнулся с двумя почти непреодолимыми помехами.
Во-первых, в селе было очень мало книг, во-вторых, мачеха, ревнуя мужа ко
всему на свете, заодно ревновала и маленького Петька к чтению и книгам. Она
считала это зряшной тратой времени, придумывала мальчику то одну, то другую
работу, гоняя его с утра до вечера, и ночью спешила погасить лампу, чтобы не
выгорал керосин. Но когда отец задерживался в колхозе, Петько заявлял, что
будет ждать его, и садился возле лампы. Как мачеха ни подкручивала фитилек,
все же что-то там мигало, разбирать буквы как-то удавалось.
- "Приключения Травки". Он взял книжку, надеясь, что в ней говорится о
приключениях известной и переизвестной ему травы, ласково названной травкой,
но оказалось, что Травкой звали городского мальчика, и рассказывалось в
книжке о трамвае и еще о каких-то вещах, Петьку неведомых, чужих, порой
удивительных, а раз так, значит, надо дочитать до конца. И он сидел, пока не
пришел отец, и, чтобы задобрить его, предложил:
торопился, споткнулся о порог и растянулся на полу. Это и спасло ему жизнь.
Потому что когда он падал, что-то тяжелое просвистело у него над головой,
кто-то перепрыгнул через него, бросился в сени, зашуршал возле дверей, но,
видно, не сумел справиться с хитрой задвижкой, снова прыгнул через мальчика,
назад, в хату, завозился, зашуршал и смолк, точно умер. Петько пятясь выполз
в сени, вскочил на ноги, рванул дверь в хату, закричал: "Тату-у!" Отец с
мокрыми руками кинулся к нему, коротко крикнул мачехе через плечо: "Одарка,
лампу!" Лампа высветила побледневшего, как мел, Петька, затем черное
отверстие дверей на холодную половину хаты, высокий порог, а за порогом на
полу толстый стальной прут, ржавый, весь в зазубринах. Карналь поднял его, и
у него задрожали руки. "Хлопчик мой, - прошептал он, - это ж тебя..." Молча
махнул мачехе, чтобы осветила помещение, прутом стал раздвигать кожухи,
висевшие на жерди, дерюги, увидел чьи-то ноги в рваных сапогах, так же молча
врезал по тем ногам прутом, ноги подломились, из дерюг выпал Иван Мина,
заслоняясь от света и от занесенного над ним прута, запричитал:
с задвижкой, лежала торба с мукой, последней мукой, которая была у Карналей.
Как высмотрел ее Курайдым, а может, и не высмотрел, а просто предположил,
что у председателя колхоза она должна быть, это уже Карналя не интересовало.
Он увидел муку, подержал в руках прут, которым Иван чуть не убил сына, мог
бы и убить ворюгу, но никогда никого не убивал и, хоть весь дрожал от
пережитого за сына страха, спокойно прошел в сени, распахнул наружную дверь,
вернулся в хату, где мачеха все еще светила в глаза старшему Мине, сказал
коротко:
цыганское счастье, забормотал Мина.
не мешать Карналю размахнуться и ударить как следует, но Карналь только
повторил: "Вон отсюда!" - и, обняв за плечи сынка, пошел на жилую половину.
чтобы им так легко сходило с рук, как обошлось у Карналя, такого никто и не
слыхивал. Наверное, поэтому Иван долго потом ходил по селу и рассказывал,
как он хотел украсть у председателя колхоза муку, а Петько помешал ему,
тогда он и взялся за спрятанный в сапоге прут: "Тьяхнул по гойове и дьяяя!
Тьяхнул и не попай. А Кайнай выскочил да меня пьютом по поджийкам!"
("Трахнул по голове и дралала! Трахнул и не попал! А Карналь выскочил да
меня прутом по поджилкам!")
скрытых, часто непостижимых и загадочных, таких, что если впоследствии
попытается вспомнить, то и не различит, где сон, а где явь, как та далекая
ночь, когда горела церковь в Морозо-Забегайловке и где-то там в самых
глубинах темных степей кровавились огнем темные степи и притихшие небеса, и
во всех окрестных селах били в набат колокола, гудели, стонали, медно
колотили, словно бы на весь темный простор; или как та голодная весна, когда
сквозь оконные стекла толкался серый простор, и в нем едва угадывалась хата
Якова Нагнийного, Матвеевский бугор, Белоусов берег, и плыли словно бы из-за
того бугра какие-то люди, похожие на ржавые тени, подплывали, как бессильные
рыбы, к окнам хаты, шевелили беззвучно губами по ту сторону окна, плакали,
скребли черными пальцами по стеклу, пугали маленького мальчика, съежившегося
на печи, о чем-то молили, а потом сползали куда-то вниз, точно тонули. А
хата плыла в серых водах пространства, и мальчик плакал от безнадежности и
ужаса, так же, как плакал он, когда душил его, сонного, черный призрак, или
ударил из самопала Дусик Лосев и выжег в новой сорочке огромную дыру (не
спины было жалко - новой сорочки!), или как упала ночью в яму вниз головой
их корова и к утру захлебнулась.






 Березин Федор
Березин Федор Посняков Андрей
Посняков Андрей Самойлова Елена
Самойлова Елена Шилова Юлия
Шилова Юлия Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте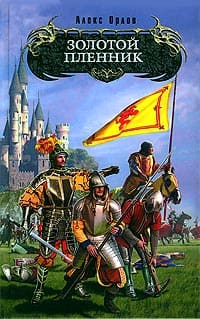 Орлов Алекс
Орлов Алекс