оружием даже там, где, казалось бы, умерли все надежды и угасли все
проявления силы. Кому принадлежала эта дерзкая мысль - Зиньке или Лебедеву -
так, кажется, никто и не узнал, потому что после освобождения села Лебедев
сразу пошел на фронт, а Зиньку забрали в район организовывать комсомолию.
Лебедев вернулся в Озера с фронта, был весь в ранах, привез с войны орден
Славы и две медали "За отвагу". Выходило, что он как бы завоевал Зиньку,
чего Карналь сделать не сумел. На свадьбе, пока Лебедев браво вызванивал
медалями и обнимал размякшую от любви Зиньку, Петро, хоть и с безнадежным
опозданием, рассказал о своих еще довоенных затаенных чувствах и с горя
впервые в жизни напился, отчего открылись его раны, и он тогда даже опоздал
к началу занятий в университете. "В коханнi серця не половинь, одне життя,
життя - одне..."
получил от вас поздравления с Октябрьской революцией, на которой я кровь
проливал во время свержения царского ига, а моих товарищей много и много
погибло, и осталось старых большевиков мизерная частица.
пошел к родной маме, а твоей бабусе, Петрик, она выплакалась хорошенько, и я
возле нее, и повспоминали нас всех, а особенно дядьку Сашка, расстрелянного
фашистами, и тебя, Петрик, боровшегося с фашистами и испытавшего от них
столько горя и страданий.
коров попродавали из-за бескормицы, но я задержал, а тут после праздников в
колхозе стали выдавать на трудодни кукурузные будылья прямо на корню, в
степи. Мне дали сорок соток. Одарка Харитоновна, хотя и старенькая уж, три
дня рубила, а я на работе и по хозяйству; нарубила целую арбу, и привезли
домой, а тут много колхозников не имеют скота и свои будылья продают, так мы
еще и подкупили. На Октябрьские праздники мне выдали в дополнительную оплату
телушку Зорьку, и теперь Одарка Харитоновна тешится с нею, как с малым
ребенком. Свинку мы поставили на откорм, потому как сегодня в колхозе
насчитали по двести грамм на трудодень кукурузы, и мне на десять месяцев
достается 193 килограмма в кочанах, так что свинку к Новому году откормим.
выдал колхозникам арбу соломы, поподгребал и сиди себе, теперь кормов и
грамма никто не может взять без бумаги. Сейчас у нас в Озерах из-за стихии в
колхозе на зимовку всего животноводства оставляют по плану коров и нетелей и
волов 450 штук, а остальные 750 голов реализуют, коней оставляют только 40
штук, а остальных 143 убивают в день по три лошади и варят свиньям. Свиней
оставляют 250 штук, а остальных 910 реализуют. Так же и с птицей. Вот такое
положение у нас сложилось с кормами.
тепло, скотину пасут, подножного корма много, озимый хлеб небывалый, жита
такие, что в стрелку пошли, так что приходится косить или пускать на них
скот. В колхозе ждем зимы, работу кончили, у меня свободное время, можно бы
почитать, ведь ночи такие длинные. Я когда бывал у вас в Одессе, то
удивился, что у вас так много книг, и просил у Айгюль, так она дала мне
книжку, называется "Журбины"; и я перечитал ее тогда, а тебе, Петрик, и не
сказал, потому что там про старого какого-то деда рабочего, а я еще дедом
быть не хочу, еще с молодыми потягаюсь. Теперь вчера вечером, 19 ноября,
приехал к Карналям мой племянник, сын покойной тети Поли Женько из
Казахстана, привез с собой торбу денег, а на себе - торбу грязи. Это он был
там добровольно два месяца и рассказывает, что там очень хорошо было, но
такой уж худой, только глаза блестят, он там грузил хлеб на машины и с
машин, одну пшеницу, и два месяца не переодевался и не мылся, потому что
воды нету, только для питья и еды, да для машин, привез полный чемодан белья
и одежи, а на себе порвал трое штанов и грязный оттуда ехал поездом десять
дней. Так что вчера нагрели кипятку, и ошпарили "паразитов" на нашем
"казакстане", и немного пробрали его за то, что он не пошел в Карналей и
такой засвиняченный там позорился среди людей и нашу фамилию позорил.
жизни.
появляется искушение откинуть его, как изношенную одежду. Да и такое ли уж
оно прошлое, когда ему лишь двадцать лет? Отец как бы в попытке спасти сына
от увлечения несущественным, как он считал, в письмах своих был предельно
деловым и точным. Не было в его письмах сказаний, легенд, сказок,
таинственной подпочвы крестьянского бытия, в котором целые поколения черпали
поэзию единения с ветрами, солнцем, землей, звездами, Вселенной. Легенды и
сказания принадлежали миру женскому, сказки оставались с дедами, уже
ушедшими из жизни. Малый Петько никогда не слыхал от отца ни одной сказки,
только дед длинными зимними ночами, лежа с внуком на горячем поду печи, на
который бабушка Марфа накладывала куски хозяйственного мыла (высушенное, оно
не так быстро смыливалось), быстро и неразборчиво бубнил ему сказку за
сказкой, без передышки, без объяснений, без названий, сплетая все в какой-то
бесконечный фантастический эпос, в котором слова терялись так же, как в
дедушкиных молитвах перед иконами. И если сам бог ничего не разбирал в его
бормотании, то Петько и подавно вынужден был довольствоваться одним
звучанием дедушкиного голоса и впоследствии понял, что, наверное, в сказках
важно прежде всего и не содержание, а настроение, они как музыка, как все
сто тысяч украинских песен, сплетенных в кольцо восторгов, очарований,
страхов и надежд. Может, потому отцово поколение входило в жизнь без сказок
и сыновей своих вело за собой с бодрой песней: "Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью..." Не становилась ли слишком одномерной и скучной жизнь без
сказки? Карналь не мог бы ответить с уверенностью, сказки оставались для
него в какой-то прекрасной, но недостижимой дали, когда же слышал, что рядом
с ним живут люди, которые избрали себе специальностью складывание новых
сказок, то удивлялся безмерно. Разве может существовать подделка под сказку?
Поэтому всегда отдавал преимущество людям, создающим самое жизнь, и жизнь
такой плотности, что равняется она иногда полям сжатия в звездных системах,
где фантастические силы энергии вытесняют из себя даже материю.
и тебе желаем. И грустим поныне по нашей незабвенной невесточке Айгюль, и
плачем, как вспомним, что такая молодая и знаменитая женщина ушла с этого
света, до сих пор не верится, что она погибла. Дед Гнат одно говорит, мол,
умирает только тот, кто не хочет жить, а кто хочет жить, тот живет дальше.
Деду Гнату уже сто лет, а бабке Параске девяносто семь, и оба живы, и
Васько, их сын, твой товарищ, секретарем территориальной парторганизации у
нас, ему уже больше, чем тебе, Петрик, он на два года старше.
готовимся к весеннему севу, очищаем посев-материал и завозим со станции,
готовимся дать второй миллиард пудов хлеба для нашей страны, как дали
прошлый год. Погода у нас уже второй месяц стоит сырая, большая грязь, прямо
по пояс, тракторами так поразбили дороги, что никакие машины не пройдут.
восемьдесят лет, я уже в селе после деда Гната, бабы Параски и старой
Трофимовны самый старший, а еще работаю на постоянной работе, то есть триста
шестьдесят пять дней на год каждый день иду на работу без выходных, без
болезней и передышек. В этот день у нас собралось в 12 часов восемьдесят
душ, голова колхоза Зинька Лебедь с мужем и голова сельсовета Карпо Дудка, и
приехал секретарь райкома партии и голова райисполкома, и все с женами, и
была музыка, баян, скрипка, бубен, пить и есть было тоже, пива 55 бутылок,
горилки 45 бутылок, вина шампанского 5 и коньяку 18 бутылок, да еще была у
меня канистра спирта, но его никто не пил, так что остался весь целый.
Получил я 91 телеграмму к дню рождения, но все брали твою телеграмму,
Петрик, и ее читали, потому что все другие телеграммы только "поздравляем с
днем рождения", и все, а у тебя очень интересно для всех написано, и все в
одно говорили: вот у нас родился академик, и это ты воспитал, дед Андрий,
нашего советского академика, и я аж заплакал от радости, что хорошо живем, а
уже старый, восемьдесят лет, и мачехе твоей уже восемьдесят четыре, но еще
будем жить.
летом приедете в гости. Сегодня у нас снежок выпал, дороги немного
подморозило, может, понемногу наладится.
заполнены? Можно ответить одним словом: перемены. Заботы народа, который не
позволяет себе ни передышки, ни расслабления. Поэтому перемены всегда к
лучшему, потому и забывается все недоделанное, все неоплаченные долги,
собственные и чужие. Отцовы письма как бы всегда напоминали Карналю, что не
следует забывать о своем происхождении, он, как ни был занят, все больше
погружаясь в беспредельность проблем, которые возрастали, модно выражаясь,
по экспоненте, иногда невольно уже и не уходил мыслью в прошлое, а как бы
проваливался в пропасть воспоминаний, чтобы удовлетворить исконное






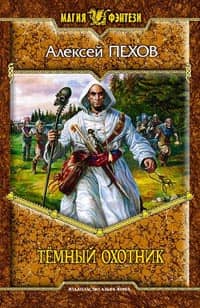 Пехов Алексей
Пехов Алексей Ковальчук Вера
Ковальчук Вера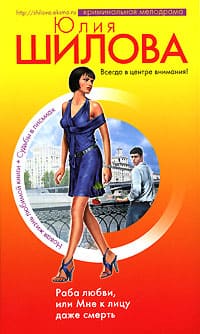 Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Лондон Джек
Лондон Джек