человеческое стремление поглядеть на себя со стороны, определить масштабы
перемен собственных. И всякий раз убеждался: видишь вокруг множество людей,
но не себя самого. Себя все же выдумываешь, так же, как и собственный голос,
которого почти никогда не слышишь и не узнаешь, когда звучит он, к примеру,
по радио. От этого неумения увидеть себя самого порой рождается ощущение
бессилия. Ты только такой, как есть сегодня, а не такой, каким был и
когда-то будешь. Ты похож на время, отмериваемое часами: часы показывают
только эту минуту, и ничего больше - ни назад, ни вперед. Люди, от природы
не наделенные силой превышать самих себя, охотно подчиняются автоматизму
времени; и тогда воцаряется настроение жить только нынешней минутой, плыть
по течению, полагаться лишь на собственные усилия, забывая о корнях, не
заглядывая на вершины. Тогда думать о жизни своей страшно, потому что
схватываешь лишь концовку, лишь ближайшее, все предыдущее тонет в целых
океанах событий, которые ты и не берешься вообразить, ни перечесть, и такой
человек как будто и не жил, а лишь присутствует нынче при развязке
собственной жизни. Все уже произошло будто за пределами его опыта: любовь,
ненависть, мужество, страдания, измены, дружба, выдержка. И не понимают
такие люди, что, возвращаясь к самому себе, жаждешь снова сравняться с собой
в минуты наивысших взлетов и чувствуешь всякий раз, как это мучительно
трудно, а то и вообще невозможно. Так идешь вперед, вечно возвращаясь назад,
отбегая, чтобы разогнаться, как маленький мальчик, чтобы перепрыгнуть
лужицу, или чемпион мира, который, прежде чем осуществить прыжок за отметину
мирового рекорда, отходит назад, для разбега.
и неохватными - или только примитивная электронность, машинная оголенность,
безжалостная функциональность, где умирают все мечты, где нет воспоминаний,
передышек? Твое происхождение, твоя история, история твоего народа как бы
подпирают тебя, умножают твои силы, ты приобретаешь многомерность, тебе
кажется, будто жизнь твоя не ограничивается скромными измерениями, которые
разрешают законы природы, - ведь ты овладел еще и законами истории, и вот
уже тебе тысяча и десять тысяч лет, а впереди - беспредельность и
неограниченность. И горько становится, когда, оглядываясь назад, замечаешь
нерадивость и пренебрежение опытом народа даже на примере небольшого твоего
мирка детства. Кто-то же бился в тринадцатом столетии с татарами на Химкиной
горе, раз там и теперь еще стоят Татарские могилы, кто-то не пускал
татарских всадников в плавни пасти коней, а может, не пускал и на Киев -
ведь Батый шел на золотой город русичей вдоль Днепра? Кто? Ни имени, ни
воспоминания. Да что тринадцатый век? Даже те порубленные махновцами возле
Олейнички красные бойцы - кто они, как их имена, каково происхождение,
откуда они? Никто не знает, все смыто весенними днепровскими водами, все
проросло травой, разносится ветрами, только безымянные следы, как те
глубоченные, точно на лунной поверхности, метровой глубины колеи в плавнях
посреди тальника, что были выбиты советскими танками, шедшими в сорок
третьем на Куцеволовскую переправу. А кто шел, кто пал, чьи могилы
разбросаны в степи, позарастали после войны буйной пшеницей, а потом,
распаханные равнодушными тракторами, и совсем исчезли так же, как залитые
танковые неизгладимые следы в плавнях водами Днепродзержинского моря? Теперь
даже юные озерянские следопыты не установят имен, кроме тех немногих,
которые уже во время войны погибли в самом селе и были похоронены там с
упоминанием, кто они и откуда, и теперь перенесены на новое кладбище, на
которое в День Победы приезжают их родные с Волги, Урала, Сибири, с Кавказа
и стоят, печалясь, у красных обелисков, вокруг которых зелено струятся
прекрасные просторы степи.
когда-то Рим; и краковский трубач, который известил о приближении татарского
войска и погиб от вражеской стрелы в горло, падал, захлебываясь кровью, и
трубил, трубил и не упал - падает уже семьсот лет и никогда не упадет; и та
отважная девушка, которая похитила у татарских жен зернышко мальвы, чтобы
украсить ею фасады всех хат Украины; и Александр Невский, что и доныне
смотрит, как ломается под псами-рыцарями лед на Чудском озере; и
днепропетровский парень Саша Матросов, закрывший грудью амбразуру
фашистского дзота; и молодогвардейцы - дети, которые своим героизмом
превзошли даже взрослых борцов. Разве все это можно забыть? И разве не
странны те люди, которые время от времени поднимают разговор о том, что не
нужно-де нам ни скифов, ни муромцев, ни казаков, ни участников восстаний, а
только и знают, что почаще заглядывать в подойник, чтобы установить, сколько
дала корова молока, или караулить курицу, пока она снесет яйцо.
стоял в окопе, когда вдруг с пришепетыванием прилетела фашистская мина и
взрывом свалила обоих. Ковалев упал, накрыл его своим телом, когда же
Карналь, окровавленный и оглушенный, освободился, удивляясь, почему не
шевелится Ковалев, то с ужасом увидел, что у него миной снесло голову. Не
забыть однокурсника Васю Юбкина, у которого всегда нестерпимо болели
перебитые в танке ноги, и он матерился от этой боли в самые неподходящие
моменты: перед девушками, перед преподавательницей, перед строгими
экзаменаторами. Не забыть сирот из колхозного патроната и послевоенных вдов.
Всех помнить будешь, не перешагнешь, не перепрыгнешь ни через год, ни через
день, ни через час!
перемены, что умещались в двадцатилетнем промежутке между двумя отцовыми
письмами (промежуток, надо сказать, наполненный и другими письмами отца, в
которых умело и мудро определено главное, что произошло в его мире), то,
наверное, не хватило бы самой объемной памяти ни одной из созданных им
вычислительных машин. Одно мог сказать наверное: никто не сидел сложа руки,
ибо время летит одинаково неудержимо для всех и затягивает нас в свое
движение и ритм даже тогда, когда кажется нам, будто мы сами создаем то
время.
атомоходе, присутствовал при старте космических ракет, на Байконуре, ходил
по царским палатам в Московском Кремле, видел тайгу, пустыню, океаны и
Гималаи, поднимался на пирамиду Хеопса по темной стометровой штольне и
спускался в угольную шахту с крутопадающими пластами по еще более крутой и
длинной штольне, слушал работу миллионокиловаттной турбины и пытался
расслышать, как растет под землей слабый побег пшеницы, выступал перед
пионерами, перед государственными комиссиями, с кремлевской трибуны и с
трибуны ООН. Достаточно? Он был трижды в Стокгольме, четыре раза в
Хельсинки, шесть раз в Париже и Белграде, сто раз в Москве, двенадцать раз в
Будапеште, пять раз в Праге, дважды в Пекине (дважды!), шестнадцать раз в
Нью-Йорке (шестнадцать!), трижды в Дели, в Бонне, Берлине, Токио,
Амстердаме, Лондоне, Копенгагене, Риме. Перечень можно еще продолжить, но
надо ли? Изменилась ли от всего этого в Карнале хоть жилка? Если что и
изменилось, то разве что под действием законов природы, под влиянием лет, то
есть, откровенно говоря, старости. Всегда молоды только стюардессы в
самолетах, в которых ты летишь над миром. Жизнь или полет?
своего времени, пока он направляет все общественные силы на осуществление
этих потребностей, за ним все идут, охотно предлагают свои силы, помогают
действовать для всеобщего добра. Но бывает, что такой человек на этом не
останавливается и начинает осуществлять уже свои собственные планы, которые
ему, вполне вероятно, кажутся и мудрыми, и грандиозными, но, к превеликому
сожалению, не базируются на истинном положении вещей. К примеру, кто станет
отрицать, что кукуруза - прекрасный злак? Или что горох - чрезвычайно
полезное растение? Но попробуйте засеять кукурузой и горохом всю нашу страну
от Кушки до Мурманска - что получится? Всегда находятся люди, которые
подпрыгивают при каждом случае: ах, как это прекрасно! Ах, как грандиозно!
Ах, какая мудрость! Но народ никогда долго не сможет жить в разлуке с
истиной. Он никому не позволит злоупотреблять его терпением. Неминуемые
перемены, этот закономерный результат усилий целого народа, устраняют с
дороги все.
исторического действия - это жизнь каждого отдельного человека, человеческие
судьбы, жизнь не дает возможности пребывать в роли наблюдателя.
Государственная дисциплина предусматривает уважение к людям, наделенным на
то или иное время властью, но законы хозяйственной жизни, к сожалению, не
всегда совпадают с требованиями морали, даже самой высокой. Рано или поздно
должен был вступить в действие закон, сформулированный когда-то Пронченко:
все будут сняты или умрут. Но между тем сам Пронченко, не соглашаясь с
некоторыми почти бессмысленными замыслами одного из государственных мужей,
вернулся на работу по научной специальности. Карналь ездил к Пронченко в
гости, не имел намерения отказываться от знакомства с этим прекрасным
человеком только потому, что у того изменилась, и не к лучшему, должность,
они ездили по городу, Пронченко рассказывал академику (Карналь уже был
академиком на то время, недопустимо молодым академиком, следует заметить!),
что бы ему хотелось еще сделать в жизни, однако сделано уже было и так
немало, - и ни единого слова ни о государственном муже, ни о их немного
странной и внешне почти непрослеживаемой дружбе. Пронченко не спешил
благодарить Карналя за верность, тот не носился со своим благородством. Ибо
разве же не так должны вести себя все честные люди?
минуту торчать перед глазами - и вновь очутился на трибунах. Было
впечатление, что он и спит на трибуне. Записывался на выступление всюду и
записывался первым, чтобы перед ним не провели ту всемогущественную черту,
которая кое-кому закрывает рот даже и тогда, когда он может сказать что-то
стоящее. Правда, Кучмиенко использовал трибуны только местного значения.
Выше его не пустили. Опять же нашлись мудрые люди, - если посмотреть, то во
все времена в таких людях нет недостатка. Суть всех выступлений Кучмиенко
сводилась у одному и тому же: вот есть солидные научные, а то и
научно-производственные учреждения. Кто их возглавляет? Те или иные люди. А
если присмотреться к тем людям, то что мы увидим? Мы увидим, что их
поставили другие люди. Работники. Ответственные, можно сказать откровенно.


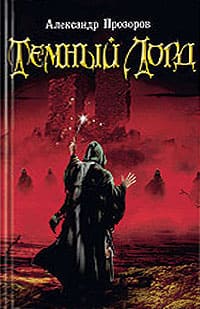

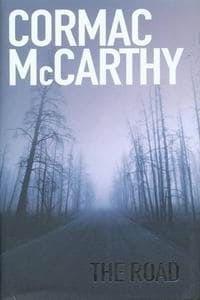
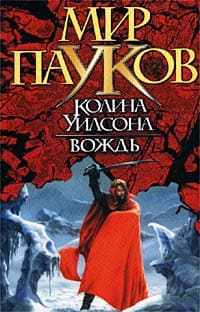
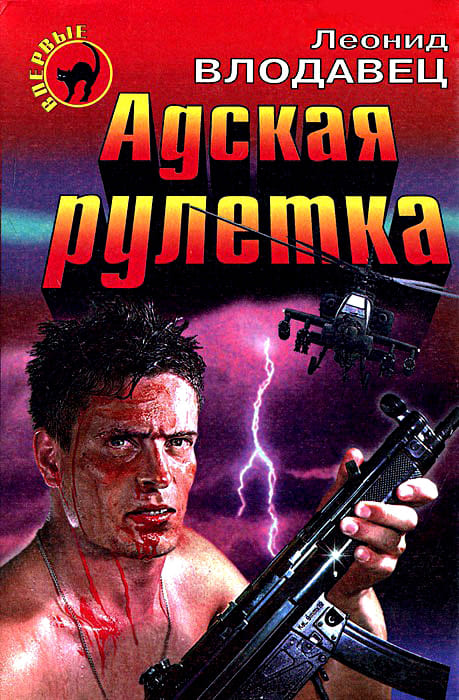 Влодавец Леонид
Влодавец Леонид Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий Флинт Эрик
Флинт Эрик Березин Федор
Березин Федор Шилова Юлия
Шилова Юлия