занесенной илом времени. Жили тут еще древние греки, разводили на солнечных
склонах виноград, до греков были племена, от которых не осталось ни имени,
ни следа. Затем появились в этой цветущей стране дикие орды кочевников,
потом расцветало ханство Восточного Крыма. Чьи еще усилия погребены здесь
под каменными осыпями? Еще и доныне угадывались то там, то тут каменные
террасы, бассейны для сохранения воды, просуществовавшие неповрежденными в
течение тысячелетий, сады, уже давно сожженные солнцем и вдавленные в землю
неистовыми бурями, превратились в цепкие, косо растущие деревья, на колючих
скрюченных ветвях которых распинались теперь бессильные ветры и даже само
небо.
билась дикими ритмами ночных танцев, шумела в приглушенном шуршании тысяч
подошв по асфальту набережной, наяривала красками мелодий в транзисторах и
портативных магнитофонах, выплескивалась из громкоговорителей на причалах,
возле экскурсионных баз, ресторанов и киосков, где бойкие парни торговали
найденными на берегу и кое-как отшлифованными разноцветными камешками из
местных бухт: сердоликами, агатами, халцедонами, малахитом, яшмой. В других
фанерных будках записывали трудящихся на пластинки, чтобы каждый мог послать
домой свой законсервированный, исполненный отпускной бодрости голос, а от
причалов с маленьких белых теплоходиков с экзотическими и таинственными
названиями "Ассоль", "Гилея", "Ихтиандр" невидимые заботливые голоса
доверительно приглашали всех желающих осуществить утреннюю, дневную или
вечернюю морскую прогулку - часовую, трехчасовую, а то и целодневную, чтобы
отдохнуть от тесноты и суматохи пляжей, полюбоваться видом древних вулканов
с моря, а вечером дать отдых глазам, издали созерцая россыпи огней
побережья. На пляже кипело с рассвета до самой темноты, тысячи загорелых
тел, роскошные франты в пестрых шортах, модницы в экстравагантных купальных
костюмах, бесконечный парад красоты, удали, стремления понравиться, флирт,
маленькие страсти, никчемные переживания, быстрое утешение в холодной
морской воде и еще более холодные голоса дежурных со спасательных постов:
"Вернитесь в зону купания!" Эти голоса стали вскоре для Карналя едва ли не
главнейшей приметой этого заброшенного на обочину курортных путей уголка.
Перекрывая гам, визг, крики, смех, музыку, шум моря, с мертвым равнодушием,
без всякого выражения повторяли они с утра до вечера одни и те же слова,
точно записанные на пленку и воссоздаваемые проигрывающими устройствами,
независимо от того, что делалось на море и на берегу: "Повторяю. За буями!
Вернитесь в зону купания! Вернитесь в зону купания! Выйдите из зоны купания!
Внимание на прогулочной шлюпке! Выйдите из зоны!"
Усилия и возможности, намерения и осуществления, попытки и бессилие.
Мышление порой становится трудным, как женские роды. Не приносит почти
никакой радости, кроме ожидания конца, за которым хочешь надеяться на
освобождение... Боль, пот, мука, почти проклятие. Но кто же о том ведает?
Нечеловеческое напряжение нервов, почти прямая пропорциональность между
последствиями мышления и физическим самочувствием. И вечная борьба за
высвобождение из-под чужих влияний, отбрасывание чужих идей, решений,
находок. И это в почти заинтегрированном мире научных идей, которые часто
бывают закодированы в такой же примитив, как те беспрестанные повторения с
вышки спасательных постов: "Вернитесь в зону купания! Вернитесь в зону
купания!"
вытолкал его сюда, дал возможность затеряться в неизвестности, попробовать
хотя бы немножко отойти душой, не думать о недоделанном, недовыполненном.
Интересно, знал ли Пронченко, посылая его именно сюда, что в этих местах уже
пытались когда-то спасаться одиночеством два человека, по-своему известные и
ценные для общества. Сначала это был поэт. Сложил на берегу моря из дикого
камня высокую башню, приглашал к себе в гости далеких друзей, читал вечерами
с башни стихи, добиваясь неизвестно чего больше: то ли пересилить шум моря,
то ли чтобы его речитативы вплетались во всплески воды и громыхание ветров.
Намерения были дерзкие, последствия себя не оправдали. Соединился ли поэт с
морем, того никто никогда не узнает, ибо море молчит, зато от людей
оторвался он навсегда - это уже наверное.
другой человек. Конструктор, лауреат, академик.
приехал, увидел, облюбовал, выбрал себе над самым морем круглую скалу и на
самом верху, под ветрами и звездами, поставил виллу, загадочную, всю в
башенках, высоких просторных террасах, причудливо барочных окнах,
неодинаковые пропорции которых удачно гармонировали с неистовыми ландшафтами
и древними вулканическими руинами окрестностей. Конструктору нужен был
особый отдых, нужно было одиночество, кто-то догадался, может, так же, как
Пронченко с Карналем, и помог ему уединиться хотя бы на короткое время вот
здесь, на базальтовой скале.
щедрости и становится даже неблагодарным. Именно это и произошло с виллой
конструктора, который так иного сделал для нашей победы над фашизмом. Пришли
люди с будничным мышлением, мгновенно оценили преимущества места, выбранного
когда-то конструктором, на скалу взбираться им не было нужды, зато они
накрепко отаборились у ее подножья. Скалу обставили так: с одной стороны
"Левада" - кафе самообслуживания, пропускная способность - двадцать тысяч
человек в сутки, кафе гремит жестяными подносами, стучит тарелками, бьет
гамом и клекотом, с другой стороны - общественная уборная для пятидесяти
тысяч "дикарей", которые слоняются по набережной с апреля и до конца октября
ежегодно; с третьей - спасательная станция, на деревянной вышке которой с
утра до позднего вечера надрывается мужской натренированный бас со всем
спектром модуляции сердитости: "Вернитесь в зону купания! Повторяю!
Вернитесь в зону купания!" А что с четвертой стороны? Еще одна скала, совсем
уж неприступная, сплошной камень, голая субстанция, на вершине которой еще
перед восходом солнца усаживается какая-нибудь парочка, демонстрируя
минимальный бюстгальтер и японские плавки, а также объятия, поцелуи и
пустоголовость. Собственно, четвертая сторона, наверное, в свое время
привлекала конструктора всего более, именно учитывая ее вероятную
неприступность. Но есть ли что-то на этом свете неприступное для человека?
Когда-то и сам конструктор был, вообще говоря, неприступным для широкой
общественности, был вознесен, неприкосновенен, без конца венчаемый лаврами.
Увы, все меняется, и не на пользу обособления! "В том, что известно, пользы
нет. Одно неведомое нужно"*.
не для утешения одиночеством и восстановления душевного равновесия в тишине
и отчужденности от всех, - напротив, руководствовался скрытым намерением
(весьма хорошо зная натуру Карналя) показать, что спасение только там,
откуда бессознательно стремишься удрать, в привычной стихии, в ежедневных
заботах, размышлениях, решениях, в ожесточенной деятельности. Да, это всякий
раз будет напоминать тебе самое дорогое, бессмысленно и трагически
утраченное тобой, напоминать Айгюль, которая слилась для тебя с твоей наукой
почтя полностью, но и без этого тебе уже не жить, и нигде ты не найдешь ни
отдыха, ни спасения.
бессонные сны с незащищенными глазами уэллсовского человека-невидимки,
несуществующе прозрачные веки которого не задерживали света. Ему надоели
вулканические горы, пустынные ландшафты, созерцания облаков, слушание ветра
и морских волн, ему хотелось к людям, к их шуму; как воды в жару, хотелось
разговоров о науке, споров, ссор, разногласий; он шел на почту, выстаивал
часами в длиннющей очереди, среди тех по последней моде ободранных юношей и
девушек, которые слали отчаянные телеграммы мамам с просьбой спасти
тридцаткой или полусотней, посылал телеграммы в свое объединение, добиваясь
известий, сведений, новостей.
спасаться от вечной тишины своей обсерватории и блаженствовал среди толчеи и
гама пляжей; отставной майор, наезжающий сюда вот уже двадцать лет, "потому
что нигде так не ловятся бычки с лодки, как в этой бухте, надо только знать,
где стать"; старый матрос, участник челюскинской эпопеи, владелец уникальной
коллекции местных минералов, собранной им, пожалуй, лет за тридцать. Все это
были люди не надоедливые, спокойные, углубленные в свои пристрастия, с ними
можно было обменяться словом-двумя раз в неделю, и этого было достаточно, но
со временем Карналь почувствовал, что ему этого мало, и понял, что сбежит
домой. Пронченко, видимо, предвидел такое, предупреждал: "Не смей
возвращаться досрочно! Дам команду, чтобы тебя не пускали в кабинет, заберу
ключи!" Но кто бы мог Карналя удержать там, где речь идет о высшем
назначении его жизни! "Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг с
другом. Одна, как страсть любви, пылка и жадно льнет к земле всецело, другая
вся за облака так и рванулась бы из тела".
своему начальнику самые интересные зарубежные журналы и бюллетени
технической информации. Это забирало два-три часа в сутки. Чтение книг? Он
достиг уже такого состояния эмоциональной и информационной насыщенности
мозга, что почти не читал новых книг, а только перечитывал некоторые старые,
ни одной из которых в местной библиотеке не было, - тут отдавали
преимущество модным романам, приключениям разведчиков, популяризаторским
биографиям знаменитых людей, среди которых случались и ученые. Но что можно
написать об ученом и можно ли вообще о нем что-либо написать? Лучше всего -
изложить суть его открытий, а это, к сожалению, может быть интересным только
специалистам, которые знают о том и без услужливых популяризаторов. Карналю
не хотелось ничего о науке - ему хотелось самой науки, от которой он был
оторван. Метко сказал когда-то Анри Пуанкаре: человек не может быть
счастливым благодаря науке, но еще менее он может быть счастливым без науки.


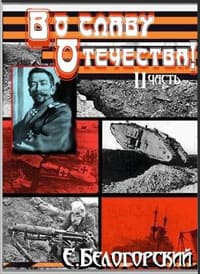
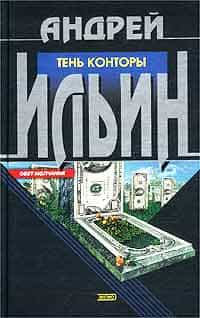

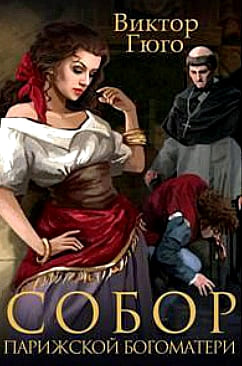
 Лукин Евгений
Лукин Евгений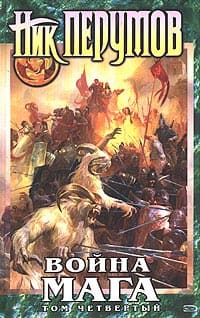 Перумов Ник
Перумов Ник Суворов Виктор
Суворов Виктор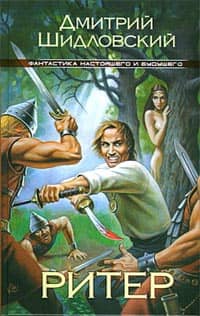 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий Никитин Юрий
Никитин Юрий