главное - женщина, молодая, правоверная, отчего наслаждение от созерцания
еще увеличивается, и поэтому они летят на нее, забивают ей дыхание так же,
как удушливый ветер лодос.
от Золотого Рога. Темные камни, циклопические скалы, могучие глыбы,
зубастые короны башен, то четырехугольных, то круглых, тесаный камень и
красная плинфа оград, руины прилепившихся к оградам древних дворцов,
глубоченные рвы, наполненные уже не водой, а обломками прежних святынь и
жилищ, травой, зельем, стволами поваленных деревьев, чащами; где-то за
рвами широкая дорога, выложенная белыми плитами, наверное, еще во времена
греческих императоров, на склонах рвов клочки огородов, потом снова дикие
заросли, плющ, иудино дерево с цветами неестественной окраски, выгоревшая
на солнце трава, ослы с красными тюками на спинах, круглоголовые чоджуки.
города, а здесь, на улицах, - его внутренности, требуха, грязь и отбросы.
Вся жизнь сосредоточилась в тех лабиринтах взглядов, в капканах огненных
глаз фанатиков, в неистовстве похоти. И если жизнь представлялась как
евхаристия, как неудержимый бег апостолов к тайне, то теперь Настася могла
убедиться, что тайн не существует, что и на тех апостольских вершинах,
пожалуй, можно найти проклятие, а то и конец.
между стамбульцами и навеки утраченными людьми из Рогатина, которые стояли
у нее перед глазами неотступно и упорно, а может, то она сама выстраивала
их рядами в своем изболевшемся воображении, цеплялась за них, как за
последние остатки жизни. Не было ничего общего. Может, только
караим-пекарь походил немного на этих мужчин. Разве же такими были
рогатинцы, добрые, ласковые, какие-то светлолицые, наивные, как дети? А
эти усохшие, шершавые, вывяленные и высушенные на солнце и, видимо,
ленивые, как тот Василь из Потока, что упорно ставил свою халупу слишком
близко от синагоги, и хоть правоверные евреи всякий раз разваливали ее, не
давая Василю возвести кровлю, он вновь и вновь упрямо лепил ее, потому что
лень было отодвинуть ее дальше.
развеселилась и смогла даже затеять сама с собой причудливую игру. Никакая
она не полонянка, не проданная, не купленная, не дочка попа из Рогатина, а
молодая турчанка, принадлежит этому живописному необычному миру, а мир
принадлежит ей. Она беззаботная девчушка, свободная, властная, богатая.
Может, даже дочь Синам-аги. А то и выше. Это неважно, главное - молодая,
привлекательная, правоверная, отчего, вишь, наслаждение для взглядов еще
усиливается, и потому они устремляются на нее, минуя бедных ее подруг,
забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер лодос.
вытанцовывала каждая мышца, и тонкий шелк послушно передавал все это,
повторял и воссоздавал, даже как будто вздох восторга сопровождал и
преследовал таинственную, необыкновенную девушку, катился за нею,
нарастая, умножаясь; соревнуясь в мощи с неустанным ветром: <Бак, бак,
бак!>*
улицах. Точно в Рогатине в ярмарочные дни. Кони с всадниками и
расседланные, ослики с поклажей в сонной дреме или в жутком крике,
напоминавшем скрип сухого колеса: <И-ах, и-ах!>, собаки грызутся за голые
бараньи кости или щелкают зубами, вылавливая блох в слипшихся от грязи
хвостах, изнеженные гибкоспинные кошечки наслаждаются своей
неприкосновенностью и безнаказанностью, воркуют голуби возле мечетей и
фонтанов, чирикают маленькие птички, распевают в ветвях, вычирикивают в
густой листве, - мир красочный, ласковый, совсем чуждый этому
нечеловеческому лабиринту, выстроенному из скользких вожделенных взглядов
и из ненавистного дыхания, охватывающего тебя смердящим облаком, сквозь
которое невозможно прорваться.
словно забыли о его существовании так же, как медленно забывали своего
бога, который бросил их одних, отчурался, остался за морем, послав их на
чужбину, беспомощных и слабых.
точно родившись из стамбульской пылищи, появилась отара серых лохматых
овец, овцы плотно теснились, напуганно налетали друг на друга, тыкались
сослепу то в одну, то в другую сторону, чабаны в высоких, островерхих
мохнатых шапках, в когда-то белой, а теперь безнадежно заношенной одежде
гийкали на своих одуревших животных, сбивали их герлыгами еще плотнее,
гнали дальше на продажу или на убой, а впереди отары важный, как
Синам-ага, выступал огромный черный козел с повешенным на шею
колокольчиком-боталом из позеленевшей меди, и та медь с каждым
покачиванием козлиной шеи звенела глухо, мучительно, как Настасино сердце.
Духом гибели повеяло на несчастных женщин от этого зрелища, в ноздри бил
им смрад ненависти, слышался голос смерти.
Настасе чудилось, будто это глубоко в ее груди звучит чье-то
предостережение: <Стой! Стой!>, и тело ее словно одеревенело, потеряло
гибкость и изящество, не могла ступить ногой, не могла шевельнуться - вот
так бы упала, ударилась о землю и умерла тут, чтобы не видеть этого чужого
города, не ощущать на себе липких, ползущих, как гусеница, взглядов, не
знать унижения и страха, сравняться с теми овцами, предназначенными на
убой.
двухэтажному деревянному дому, старому и расползшемуся, как и его хозяин
Синам-ага. Настася краем сознания отметила густую резьбу, маленькие
окошечки с густым плетением деревянных решеток наверху, крепкую дверь с
толстым медным кольцом, старое дерево перед домом, клонившееся на стену -
вот-вот упадет. Из бесконечного Стамбула, из его ненависти и муки
бесконечной они были брошены теперь в тишину этого прибежища, в тесноту
деревянной клетки-тюрьмы, где свободу заменили решетками на окнах, старыми
коврами на полу, подушками - миндерами, беспорядочно разбросанными между
медной посудой, курильницами, вещами незнакомыми, причудливыми,
бессмысленными и враждебными.
вода, где все необходимое.
алчных глаз и живы, живы!
крепко запирали для надежности, бормотал молитву благодарности: <Во имя
Аллаха милостивого, милосердного. От зла тех, что дуют на узлы, от зла
завистника, если он завидовал!>
терпеливо выжидать со своей добычей, пока придет время выгодно ее продать.
Ту красноволосую продаст венецианцу, давшему задаток, а до тех пор она
будет вместе со всеми. Торопиться с нею не следует, хотя она и не его
наполовину. Никогда не надо спешить отдавать чужое. <Если дадите Аллаху
хороший заем, он удвоит вам и простит вас... знающий сокровенное и явное,
велик, мудр!..>
думали. Кто? Его евнухи, которых должен был держать для присмотра за
гаремом? Или сама рабыня, слишком дерзкая и неукротимая для своего
положения? Дерзости он не прощал никому. Даже султан Сулейман никогда бы
не осмелился быть дерзким с Ибрагимом. Отношения между ними вот уже десять
лет были чуть ли не братские. Старшим братом, как это ни удивительно, был
Ибрагим. Сулейман подчинялся Ибрагиму во всем: в изобретательности, в
капризах, в настроениях, в спорах, в конных состязаниях и на охоте. Шел за
ним с удовольствием, словно бы даже радостно, Ибрагим опережал Сулеймана
во всем, но придерживался разумной меры, не давал тому почувствовать, что
в чем-то он ниже, менее одарен, менее ловок. Все это было, но все было в
прошлом. Смерть султана Селима изменила все в один день. Ибрагим был
слишком умным человеком, чтобы не знать, какая грозная вещь власть.
Человек, облеченный властью, отличается от обыкновенного человека так же,
как вооруженный от безоружного. Над султаном - лишь небо и аллах на нем.
Аллах во всем присутствен, но все повеления исходят от султана. Теперь
Ибрагим должен был оберегать Сулеймана, охранять его днем и ночью,
удерживать в том состоянии и настроениях, в каких он был на протяжении
десяти лет в Манисе, конечно же по отношению к себе, ибо зачем же ему было
заботиться о ком-то еще на этом жестоком и неблагодарном свете? Напряжение
было почти нечеловеческим. Быть присутствующим даже тогда, когда ты
отсутствуешь. Появляться, чуть только султан подумает о тебе, и суметь так
повлиять на султана, чтобы он не забывал о тебе ни на миг. В Манисе
Ибрагимовыми соперниками были только две женщины - мать Сулеймана валиде
Хафса и любимая жена Махидевран. Впрочем, остерегаться он должен был
только валиде, ибо она имела власть над сыном таинственную и
неограниченную. В Стамбуле валиде приобретала силу еще большую, но тут
появилась соперница самая страшная - держава, империя. Она затягивала в
себя Сулеймана, грозила проглотить, состязаться с империей было
бессмысленно, поэтому Ибрагим должен был теперь заботиться лишь об одном:
не отставать от Сулеймана, быть с ним сообща в добре и зле, ясное дело,
уступая ему для вида первое место, хотя на самом деле изо всех сил


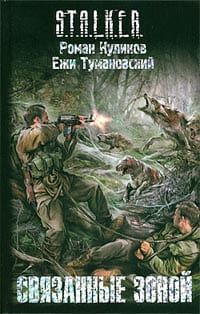
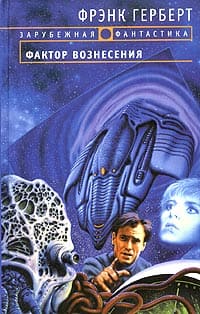
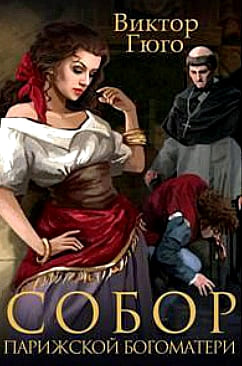
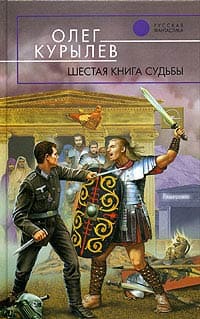
 Посняков Андрей
Посняков Андрей Контровский Владимир
Контровский Владимир Посняков Андрей
Посняков Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр Прозоров Александр
Прозоров Александр Березин Федор
Березин Федор