художнику весь в золоте, на фоне тяжелых бархатных занавесей, а Роксолане
хотелось бы затолкать Сулеймана в небольшую комнатку, разрисованную
холодной рукой Беллини, который смотрел бы на мир словно сквозь светлые
волны Адриатики, и поставить у стены, забрызганной кровью. <На крови
нарисуйте его! - снова хотелось крикнуть Роксолане. - На крови! Моей, и
моих детей, и моего народа!>
султанши, писал султана не в золотой чешуе, как это делал исламский
миниатюрист, которого посадили рядом с неверным, чтобы не допустить
осквернения особы падишаха джавуром, а в страшном полыхании крови: тонкий
шелковый кафтан, бархатная безрукавка, острый рог колпака - все
кроваво-красное, и отблески этого зловещего цвета ложились на острое лицо
султана, на правую руку, державшую парчовый платок, на высокий белый
тюрбан, даже на ряд золотых пуговиц на кафтане. Фигура султана четко
вырисовывалась на темно-зеленом фоне тяжелых занавесей, она стояла как бы
отдельно, в стороне от этого фона, вся в багровых отблесках, хищная и
острая, как исламский меч. И Сулейман был весьма доволен работой
художника.
государственным актам, поэтому в Тронном зале в течение всего времени,
которое нужно было венецианцу для его работы, присутствовали Роксолана,
новый великий визирь, безмолвный Аяз-паша, члены дивана, вельможи, челядь
- нишанджии, хаваши, чухраи и дильсизы.
торчал даже кизляр-ага, лишь непрерывно слонялись евнухи, то принося
что-то, то унося, так что порой Роксолане хотелось кшикнуть на них, как на
кур, отгоняя будто мух, назойливых и настырных. Знала, что это напрасно.
Евнухи всегда триумфуют. Жестоко окромсанные сами, они немилосердно и
безудержно кромсают и чужую жизнь.
полотне очертание ее лица. Несколько едва заметных прикосновений угольком
к туго натянутому холсту - и уже проглянуло с белого поля капризное
личико, выпячивая вперед дерзкий подбородок, одаривая мир
неуловимо-таинственной улыбкой, в которой обещание и угроза, хвала и
проклятие, и не знаешь, радоваться ему или бояться его.
ними. Он объединял их, хотя и неизвестно в чем. Еще не осознавали они
этого, но чувствовали, что этот рисунок навсегда соединяет молодую
всевластную женщину и стареющего художника с глазами, полными
сосредоточенности и скрытой грусти.
Родоса платье и украсила себя всеми драгоценностями. Быть может, он
подсознательно почувствовал, что венецианец нарисовал его не в ореоле
огней славы и побед, а в тяжелом полыхании крови, и теперь хотел отомстить
художнику, заставив его изображать не живую султаншу, а ее драгоценности,
сверкание бриллиантов, сочность рубинов, зеленоватую грусть изумрудов и
розовую белизну жемчугов? Он и дочь Михримах тоже велел украсить
драгоценностями так, что они сплошь затмили ее нежное личико. Чрезмерное
богатство или бессмысленная прихоть восточного деспота? Но художник был
слишком опытным, чтобы растеряться. Гений, как истина, сильнее деспотов.
Художник пробился сквозь все драгоценности, обрел за ними лицо Роксоланы,
проник в его тайны, раскрыл в нем глубоко затаенное страдание, горечь,
боль и показал все в ее улыбке, в розовом оттенке щек, в трепете
прозрачных ноздрей, в упрямом подбородке. В этом маленьком лице можно было
прочесть жестокую беспощадность нынешних времен, стыдливую нерешительность
будущего, горькую боль по навеки утраченному прошлому, которое не вернется
никогда-никогда и потому так болезненно и так прекрасно! Поэт бы сказал:
<Художник бровь нарисовал и замер...>
но не с картины прославленного венецианца, существование которой
засвидетельствует в своих <Жизнеописаниях> лишь Вазари, а с гравюры
неизвестного художника, который сделал ее с той картины. Портрет Михримах
затеряется навеки, а портрет Сулеймана окажется в Будапештской
национальной портретной галерее под инвентарным номером 438, точно султан
уже после смерти возжаждал получить прибежище на той земле, которой
причинил при жизни так много зла.
ошалелыми конями, смердящими верблюдами, с барабанами и знаменами.
как железо. Трескучее эхо от красных султанских барабанов стояло над
миром, оно впитывалось в землю, входило в ее могучее тело навсегда,
навеки, чтобы снова и снова подыматься, рассеяться горьким туманом невинно
пролитой крови, красной мглой пожаров, метанием зловещих теней убийц и
захватчиков. В человека этот звук не проникал никогда, человеческим тоже
не становился никогда - удары извне, истязания, истязания без надежды на
спасение.
счастливыми. Бесстрашно и бодро бросали они призывы людям и векам, не зная
ни старения, ни усталости. Они гремели в темноте и при солнце безжалостно,
никого не жалея, никого не страшась, шли навстречу смерти.
не щадить себя. Чувство самозащиты чуждо и враждебно мне. Ибо я только
барабан. Бей меня безжалостно, бей изо всех сил, бей яростно! Чем сильнее
бьешь меня, тем больше я живу. Что должно погибнуть, уже погибло, и я
родился из смерти животного, с которого содрали шкуру, чтобы я стал духом
бесстрашия и храбрости. Возвещаю чью-то смерть, множество смертей, мой
темный голос не знает жалости, ему чужды сомнения, торжественно и зловеще,
понуро и страшно пусть звучит мой голос, гремит и гремит моя душа!
куда снова пошел султан, на этот раз взяв с собой сыновей - Мехмеда и
Селима: <Не верьте барабанам и знаменам! Не слушайте их мертвый голос! Их
призыв - это кровь и пожары!>
моря, чтобы напугать Венецию. Как ни медленно распространялись тогда
вести, но страшная весть об убийстве Луиджи Грити все же дошла наконец до
венецианского дожа Андреа Грити. Тот тут же отозвал из Стамбула своего
художника, не дав ему возможности написать сыновей султана, а теперь из
чувства мести к Сулейману намеревался присоединиться к Священной лиге,
возглавляемой императором Карлом, самым яростным врагом турецкого
падишаха. Младших сыновей, Баязида и Джихангира, Роксолана не пустила в
поход. Сменила воспитателя Баязида - сделала им Гасан-агу. Может, не без
тайной мысли о том, чтобы хоть один из ее сыновей перенял что-то дорогое
ее сердцу, ибо заметила, что прислушивался он больше к ее песням, чем к
султанским барабанам. Да и были ли эти барабаны только султанскими? Еще
недавно они хмуро молчали при появлении Роксоланы, но когда она вознеслась
над гаремом и родила Сулейману четверых сыновей, встречали ее боем, хотя и
тогда барабанщики - дюмбекчи - упрямо держали колотушки лишь в левой руке,
словно подчеркивая непрочность положения султанши, иллюзорность ее власти.
Теперь, когда она стала всемогущей и единственной, без соперников и
врагов, дюмбекчи и тамбурджи били в барабаны обеими руками, толпы
стамбульцев ревели от восторга, увидев раззолоченную карету Роксоланы,
запряженную белыми могучими золоторогими волами. Так чьи же ныне барабаны,
неужели только султана, а не ее тоже?
только угрожающе, по-тигриному, подкрадывалось к молодой женщине, то и
дело хищно ощериваясь, когда отбирали у Роксоланы сыновей и передавали их
воспитателям, которых назначал сам султан. На первых порах не знала она
одиночества даже во время затяжных походов Сулеймана, не замечала их за
хлопотами и детьми. Но дети росли, постепенно отходя от нее все дальше и
дальше, как отдаляются ветви от ствола, и тогда она поняла, что не может
воспрепятствовать этому отчуждению, как не могла бы, скажем, насильственно
остановить рост деревьев. Ведь и деревьям тоже больно... Видела, как в
садах Топкапы садовники-евнухи подстригали кусты и деревья, как возились в
зеленом кипении, неуклюжие и неповоротливые, будто старые огромные птицы,
лязгали безжалостным железом с равнодушным наслаждением (какое
непостижимое сопоставление!), с мрачной радостью оттого, что если и не
лишают жизни вовсе, то уж укорачивают ее где только возможно. Подстригают
ли деревья в райских садах? И есть ли на самом деле где-нибудь рай? Если
нет его, то нужно выдумать, иначе не вынесешь тяжести этой проклятой
жизни. Но если будет рай, то совершенно необходим и ад. Для сравнения. И
для спора. Ибо все на свете имеет свою противоположность. Если есть
повелители, должны быть и подчиненные. Рядом с властелинами должны жить
бедняки. А она была и повелительницей, и страждущей одновременно. Ибо чем
она завладела безраздельно и уверенно? Разве что неволей и этими садами
над Босфором, окруженными непробиваемыми стенами, охраняемыми бессонными
бостанджиями.
нее залегла тяжкая тоска бездомности, жило в них отчаяние человека,
брошенного на безлюдный остров. Но кто же мог заглянуть в эти глаза?
Покорные служанки улавливали трепет ресниц, поднятие брови, движение



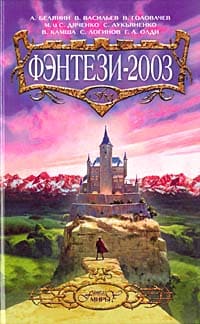
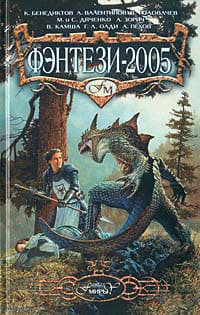

 Березин Федор
Березин Федор Посняков Андрей
Посняков Андрей Пехов Алексей
Пехов Алексей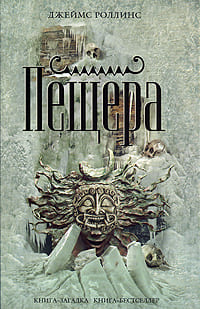 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Бажанов Олег
Бажанов Олег Куликов Роман
Куликов Роман