чтобы не печалилась по Ибрагиму. Лютфи-паша, в противовес Аяз-паше, был
человеком знающим, это был воин и дипломат, обладал безудержным нравом как
в битвах, так и в пороках, любил мальчиков, ненавидел женщин, когда
впоследствии стал великим визирем (Аяз-паша умер от мора), велел
вылавливать в Стамбуле неверных жен и вырезать им бритвой то, о чем стыдно
и говорить. Хатиджа назвала мужа бесстыдником, и он избил ее. Узнав об
этом, султан нагим посадил Лютфи-пашу на осла и велел вывезти за ворота
Стамбула. Много лет проведет он в изгнании в приморском городе Димотике и
напишет там Османскую историю и <Асафнаме> - книгу о должности великого
визиря.
из Египта. Сулейману-паше к тому времени было уже восемьдесят лет, был он
мал ростом, но отличался большой храбростью и еще большей тучностью. Был
таким толстым, что самостоятельно не мог встать с постели - его снимали
четверо слуг. Сулейман-паша был лют, как все евнухи, с его появлением в
диване все забурлило и заклокотало, как в котле с шурпой, евнух покрикивал
на всех визирей и чуть ли не на самого султана. А султан лишь загадочно
улыбался, слушая перебранку в диване. Визири дополняли в нем то, чего он
был лишен от природы. Считал, что наделен только всем высоким, а лишен
низкого. Был главой царства, которая всегда в небесах и в облаках. Визири
же должны быть ногами, которые глубоко погрязли в повседневности. Было уже
когда-то, когда одного из них попытался поднять до своей высоты, а что из
этого получилось? Ибрагим замахнулся на самую высшую власть, и его
пришлось убрать. Ибрагиму боялись перечить, поэтому все дела решались
иногда с излишней торопливостью, отчего постепенно исчезало необходимое
спокойствие в государстве и над всем нависала какая-то непостижимая
угроза. Ибрагим набрался наглости говорить и писать: <Я сказал>, <Я
решил>, <Я считаю>, тогда как такое право имел только султан, ибо лишь он
один является личностью, все остальные безликая толпа, подчиненные,
подданные, рабы. Никто не имеет права говорить: <Я думаю>, <Я требую>, <Я
прошу>, <Мне нужно>. Можно говорить: <Есть мнение>, <Мы просим>, <Нужно>.
Только тогда человек может быть спокойным, потому что никто не обвинит его
в случае неудачи. Виновны будут все, следовательно, никто. Также никогда
не нужно торопиться с решениями, и чем больше грызутся в диване визири,
тем лучше для империи, ибо все в конце концов должно зависеть от султана.
Решительность нужна лишь при штурме вражеских крепостей и могильщикам,
которые должны точно знать, где рыть ваши могилы, ибо у могильщиков и у
тех, кто проливает кровь, единый покровитель - Каин, который, как
известно, без колебаний убил родного брата.
существования. Империя - это Топкапы, и Топкапы - это империя, а над ними
султан с неограниченной властью, которая исключала даже мысль о частной
жизни подданных. Никто не принадлежал себе ни в постели, ни в могиле.
Султанский диван не составлял исключения, потому что визири были подняты
лишь над простым народом, а не над султаном, были столпами, на которых
держался Золотой трон падишаха, мертвым деревом, мертвым камнем. Вот и
все. Леность, тупость и страх наполняли души визирей, и они трепетали
перед султаном. Но ведь мог же султан взять себе и умного помощника, чтобы
еще больше напугать глупцов?
наполнял недра небес грохотом барабанов, славы и власти, величием своим,
повергал в ужас врагов и самого Марса. Он брал просторы, как женщину, он
насиловал их, весь мир вокруг него должен был служить лишь орудием кары
или наслаждений. Женщины не составляли исключения <Дай нам от наших жен и
потомства прохладу глаз...>
вынужден был признать существование рядом с собой еще кого-то. Первым
желанием было - устранить, уничтожить. После первой ночи, проведенной с
маленькой рабыней, попытался не думать о ней, забыть, но с ужасом, а затем
и со сладким удовольствием убедился в тщетности своих усилий, пронеся
голос удивительной девушки по безбрежным просторам славянских земель,
которые отныне должны были стать османскими. Теперь уже не был
единственным и одиноким на этом свете, где все должно было служить лишь
удовлетворению его прихотей, желаний и надежд. Был еще человек, - это
потрясло, удивило, вызвало раздражение, а потом наступила какая-то
расслабленность и даже растроганность, так, будто отныне он тоже
принадлежал не к заоблачным небожителям, а к обыкновенным людям. Люди еще
не рождаются настоящими людьми, ими они могут или не могут стать. Это
великая наука, постичь которую удается далеко не всем. Если бы кто-нибудь
сказал Сулейману, что эта женщина переменила его, хотя бы в мелочах,
султан лишь мрачно улыбнулся бы. Изменять мир и людей мог только он, сам
упрямо оставаясь в своей высокой неприступности. В его крови жил голос
сельджуков, извечных кочевников, которые со своими отарами и табунами
прошли полмира, и этот голос, голос крови, гнал его дальше и дальше, и он
не мог усидеть даже в своей огромной столице, в своем роскошном дворце,
возле жены, ставшей самым дорогим существом на свете, потому что она
внесла в его жизнь то, чего он сам не имел, - сердце, душу, страсть и даже
- страшно и странно промолвить - любовь. Он, который знал только силу,
испытал радость любви, и не того животного чувства, которое замыкается в
темных океанах плоти, а неуловимого и незримого, будто сотканного из
небесных золотых нитей, навеки привязавших его к этой непостижимой
женщине, к ее голосу, к ее глазам, к ее рубиновой улыбке. Когда после
покушения на его жизнь получил от Хуррем полную тревоги газель, он написал
ей в ответ свою газель, начинавшуюся словами: <Пусть твой рубин от бед
меня спасает>. Он имел в виду не тот рубин, который носил на своем
тюрбане, а рубин ее бессмертной улыбки. Верил, что будет жить, пока живет
на ее устах таинственная улыбка. Еще писал своей султанше: <Не дождусь,
чтобы увидеть тебя, прекрасную, как божья мудрость>.
не завоевав, уже поздней осенью, чтобы сразу же объявить новый поход
против молдавского господаря Петра Рареша. Куда, зачем? Снова аисты в
болотах и войско на дорогах? Чем больше захватывал султан земель, тем
больше изнурял государство, так как война всегда стоит дороже, чем
предполагаемая добыча от нее. Его слух полнился дурными вестями, которым
не было ни счета, ни конца: то засуха, то ливни, то чума, то недород, то
падеж скота, то кто-то убит, то кто-то где-то взбунтовался, то восстали
племена, то изменил какой-то паша. Но какое до всего этого дело султану,
над которым - целое государство! И он снова и снова отправлялся в походы,
спасался в этих походах от всех мыслимых бед, страдал каждый раз от
разлуки с Хуррем, но в то же время испытывал от этого необъяснимое
удовольствие, потому что разлуки были подобны горькому дыму от опиума, они
опьяняли, одурманивали и каждый раз обещали непостижимую сладость встречи,
когда Хуррем шла к нему, играя своей рубиновой улыбкой, а под тонким
шелком ее сорочки круглилась грудь, будто два больших теплых голубя. Вот
так начинался когда-то мир, и так будет начинаться он вечно!
он принадлежал не самому себе, а лишь какой-то темной и дикой силе,
называвшейся Османским государством, но почему же так быстро он покидает
столицу, только что вернувшись из похода? Задержать его она не могла,
бессильными были тут все газели, сложенные величайшими поэтами мира,
потому спела султану ночью, когда остались вдвоем, свою песню, поймет или
не поймет, зато услышит: <Привикайте, чорнi очi, сами ночувати: нема ж
мого миленького, нi з ким розмовляти. Нема ж мого миленького, рожевого
цвiту, ой, нема з ким размовляти до бiлого свiту>.
ночах, к которым теперь не мог пробиться даже памятью. А она неожиданно
преобразилась, стала такой же юной, как тогда, когда пела ему и припевала,
согревала его взглядом, словами, обещаниями, капризами, нежностью,
вздохами, приглушенным голосом. Время было бессильно против нее. Казалось,
будто маленькие женщины вовсе не стареют, время и стихия не властны над
ними. Маленькая песчинка всегда остается песчинкой, тогда как даже самые
высокие горы разрушаются под действием стихий, и чем выше они, тем более
тяжкие и ужасающие разрушения на их исполинском теле.
ему Роксолана.
мир.
рай и ад носила в своей душе. Родилась доброй, теперь ее хотели сделать
злой. Кровь этого человека падала на нее и ее детей, и не было спасения.
Непостижимая женщина, сотканная из пения и стонов.
лишь пыль от султанских войск.






 Корнев Павел
Корнев Павел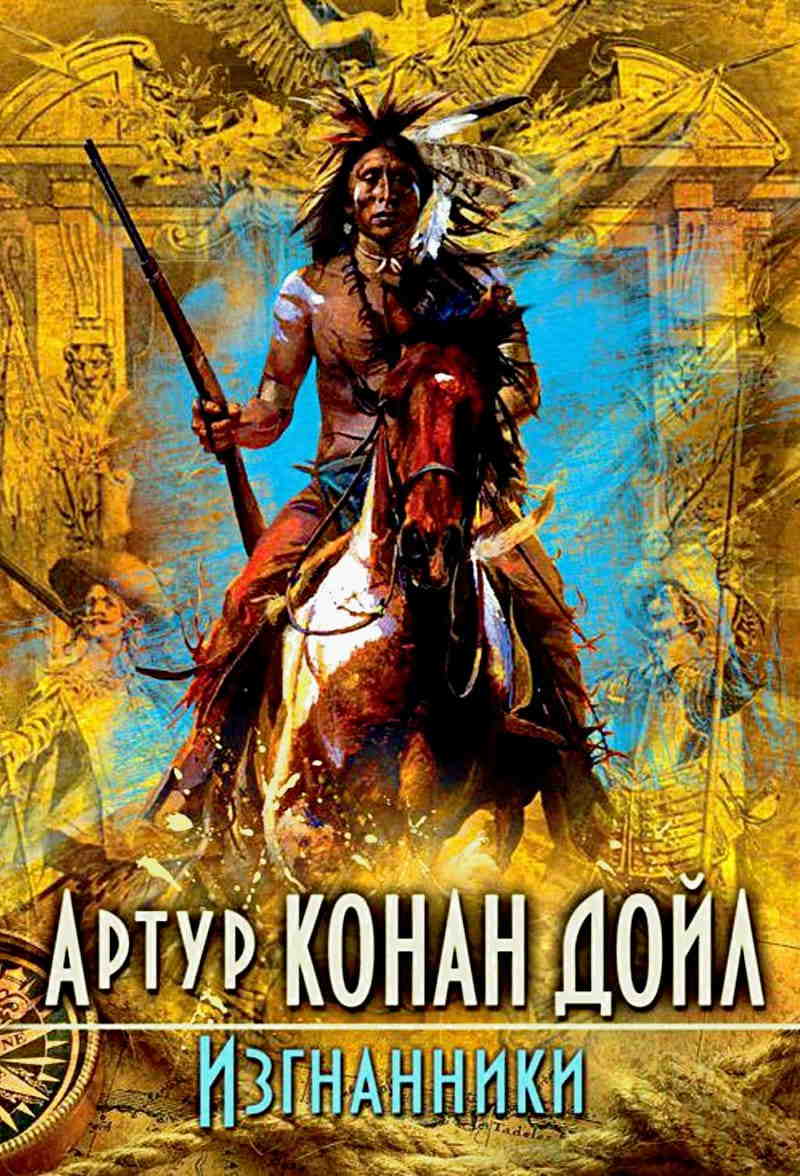 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур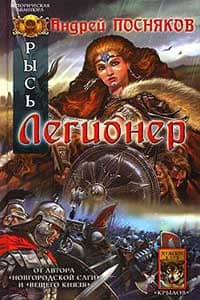 Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий