Сын продолжал играть драгоценным оружием, а ей показалось - играет ее
сердцем. Обессиленно прикрыла глаза веками. Отпустила обоих. В дверях
сразу же возникла могучая фигура кизляр-аги Ибрагима, промелькнули
вспугнутые тени евнухов, она гневно взметнула бровями: прочь!
там этих посланцев еще!
перехода. Роксолана ждала его, стоя среди покоев.
выкупай из неволи всех наших людей, каких найдешь в Стамбуле. Найди всех и
всех отпусти на волю.
годовой доход его составляет целых шестьдесят бочек золота. Не обеднеет. И
никому ничего не говори. Мне тоже.
давая им добраться домой.
для этого. Там сейчас одни глупцы. Подумаю и об этом. Там еще какой-то
заморский посланец. Узнай, что ему надо. А теперь иди.
и на каждом шагу: <Но тот, кто давал, и страшился, и считал истиной
прекраснейшее, тому Мы облегчим к легчайшему>.
прилетать с Балкан, бить в ворота Топкапы, может заморозить даже Босфор,
будет морозить ей душу, хотя какой холод может быть больше холода
одиночества? Бродила по гарему. Холод, сквозняки, сырость. Окна застеклены
только в покоях валиде и ее собственных, а у невольниц-джарие - прикрыты
кое-как, и несчастные девушки тщетно пытаются согреться у мангалов с
углем. Подавленность, зависть, ненависть, сплетни, темная похотливость,
извращенность. Только теперь по-настоящему поняла всю низость и грязь
гарема, поняла, ужаснулась, переполнилась отвращением. Спасалась в
султанских книгохранилищах, но все равно должна была снова возвращаться в
гаремлык - в гигантскую проклятую клетку для людей, в пожизненную тюрьму
даже для нее, для султанши, ибо она жена падишаха, а муж, как сказано в
священных исламских предписаниях, должен содержать жену точно так же, как
государство содержит преступников в тюрьме. Наверное, женщин запирают
здесь в гаремы так же, как по всему миру запирают правду, прячут и
скрывают. Выпустить на свободу женщину - все равно что выпустить правду.
Потому их и держат в заточении, боясь их разрушительной силы, их
неутоленной жажды к свободе. Как сказано: страх охраняет виноградники.
Может, и Сулейман упорно убегает от нее, приближаясь лишь на короткое
время, чтобы меньше слышать горькой правды, меньше просьб и прихотей,
прилетает, будто пчела к цветку, чтобы выпить нектар, и поскорее летит
дальше и дальше. Он никогда не пытался понять ее, подумать о ней как о
равном ему человеке, думал только о себе, брал от нее все, что хотел,
пользовался ею, как вещью, как орудием, даже к своему боевому коню
относился внимательнее. Тяжело быть человеком, а женщиной еще тяжелее. А
она чем дальше шла и чем выше поднималась, тем больше ощущала себя
женщиной. <Не предай зверям душу горлицы Твоей>. Искать спасения в любви?
Хотела ли она, чтобы ее любили? А кто этого не хочет? Но чего стоит любовь
пусть даже могущественнейшего человека, если вокруг царит сплошная
ненависть и льется кровь реками и морями? Кровь не может быть прощена
никогда, а только отмщена или искуплена. Чем она искупит все кривды,
которые претерпевает ее родная земля? Ледяной купелью исповеди, раскаянием
и муками? Как хотелось бы не знать ни душевного смятения, ни мук почти
адских. Но праведным суждено смятение. Разве мы не временные гости на этом
свете? И разве не боимся прошлого лишь тогда, когда оно угрожает нашему
будущему? Даже уплатив дань всем преисподним, не обретешь спокойствия.
Искупление, искупление. А у нее дети, и в них - будущее, истина и
вечность.
хлопотал не о венецианском посланце с письмом, а об Иерониме Ласском.
Сопровождал султаншу в медресе, где учились ее сыновья. Она хотела
убедиться, что там не холодно. Быстро шла длинным темным коридором, ведшим
в устланное красными коврами помещение кизляр-аги в медресе для шах-заде.
На широких мраморных ступеньках огромный Ибрагим мог бы догнать укутанную
в мягкие меха султаншу, но не отважился, брел позади, большой и неуклюжий,
за спиной показывал евнухам, чтобы позаботились о порядке в зале для
занятий, хотя сделать уже что-либо было поздно. Роксолана быстро осмотрела
несколько крошечных комнат, предназначенных для уединения вельможных
учеников, затем перешла в зал для занятий, представлявший собой большое,
просторное помещение в форме нескольких широких террас. Стены зала были
украшены желто-золотистыми фаянсами с изображением цветущих деревьев,
напротив входа картина - Мекка с черным камнем Каабы и стройными белыми
минаретами. Посредине зала лоснящаяся пузатая жаровня, излучавшая тепло,
огромный светильник в форме зари, на нем шкатулка, в которую прятали Коран
после чтения. Всюду персидские столики, длинные низкие диваны, обтянутые
шелком, на столиках синие кувшины с цветами, высокие окна с разноцветными
стеклами с изображениями полумесяца и звезд.
Коран, самую первую и, по мнению улемов, самую главную, здесь изучали
буквы, начиная с элифа, похожего на тонкий длинный дубок, а дубок, как
известно, пришел из рая. Каждая буква, как человек, имела свой нрав и свой
лик: у <ба> запали подвздошья, <сад> имел губы, как у верблюда, у <та>
уши, как у зайца. Суры Корана имели свое особое значение и назначение.
Первая сура Фатиха читалась перед началом каждого важного дела, а также за
упокой души. Тридцать шестую суру <Ясын> читали во всех случаях, когда в
медресе ученики доходили до <Ясын>, хором кричали: <Ясын, ягли берек
гелсын> - <Ясын, масляный коржик неси!> Большим праздником было, когда
доходили до семидесятого стиха восемнадцатой суры - почти половины Корана,
но наибольшее разочарование ждало малышей в конце занятий, когда ходжа
говорил им, что сто двенадцатая сура Ихляс стоит всего Корана. Если так,
тогда зачем было изучать эту огромную запутанную книгу - ведь стоит
запомнить лишь несколько стихотворений Ихляса.
младший, Джихангир, заканчивал эту тяжелую и неблагодарную науку, чтобы
высвободить время для знаний, необходимых властелину, хотя и не было
никаких надежд на то, что он станет султаном: ведь над ним стояли по праву
первородства еще четыре брата. Даже Селим, второй после Мехмеда, не
возлагал особых надежд на престол, учиться не хотел упорно, почти
воинственно, на упреки матери дерзко отвечал:
лишь бы жить! Не сушить голову, не корпеть над книгами, быть вольным, под
небом и ветрами, с конями, псами, соколами, охотиться на зверя, раздирать
теплое мясо, пить свежую кровь!
это, Роксолана ничем не выдала себя, лишь окаменело ее лицо и побледнели
уста. Селима возненавидела с тех пор и уже не могла тянуться к нему
сердцем, хотя внешне никогда этого не показывала. Не могла простить ему
преждевременного пророчества страшной судьбы, собственной и его младших
братьев, и часто ловила себя на том, что сама думает точно так же. Может,
и к своему самому младшему относилась со странным равнодушием, не веря в
его будущее, а Джихангир, будто ощущая материнскую холодность к нему,
надоедал ей, просился спать в ее покои, канючил сладости, игрушки,
одеяния, не давал покоя ни днем, ни ночью, так, будто мать была его
рабыней. С рабами и детьми разговаривают однозначно: пойди, встань,
принеси, дай, не трогай. Джихангир не признавал такого способа обращения,
он требовал у матери, чтобы она рассказывала ему сказки и поэмы, чтобы не
умолкала ни на миг. Он рано постиг тайны человеческого поведения, будучи
еще не в состоянии осознать это, все же как-то сумел почувствовать, что
Роксолана должна вознаградить своего последнего сына, эту жертву судьбы,
это возмездие или проклятие за все зло, накопленное Османами, отплатить
если и не нежностью, то вниманием и покорностью, и потому сумел захватить
власть над матерью и стал настоящим деспотом. А маленький деспот намного
страшнее большого, потому что он мелочен, назойлив и не дает передышки ни
на миг, от него не спрячешься и не избавишься.
Мехмед, Селим, Баязид и Михримах, и сегодня утром она подумала, что ему
здесь, может, холодно, как холодно всюду в просторном неуютном султанском
дворце, и пришла сюда, чтобы развеять свои опасения.
сладкоречивого тихоню, льстивого дипломата, о котором французский король
Франциск сказал: <Никогда не служит одному, не обслуживая одновременно
другого>. Богатый краковский вельможа, прекрасно образованный и





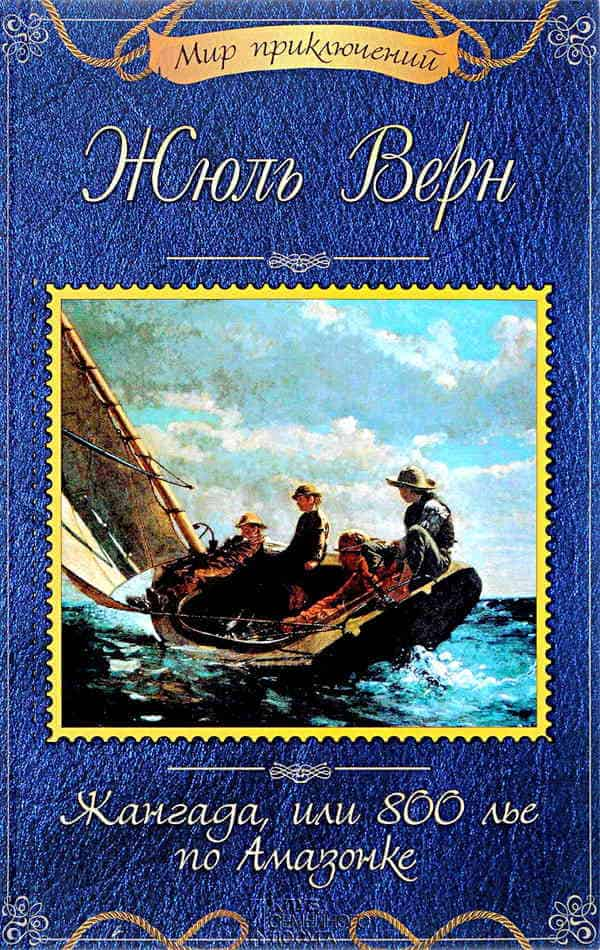
 Свержин Владимир
Свержин Владимир Перумов Ник
Перумов Ник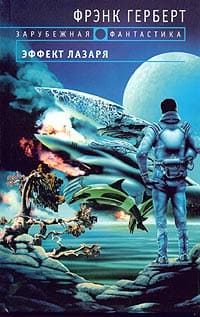 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Контровский Владимир
Контровский Владимир Василенко Иван
Василенко Иван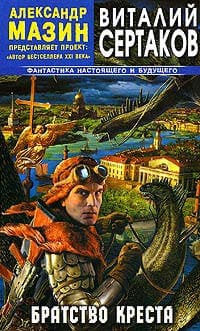 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий