что одну выбрасывают из памяти, а другую - из сердца. Далекий боснийский
род Опуковичей, из которого он происходил, наверное, просто забыл о
глазастом пятилетнем мальчике, которого тридцать лет назад схватил
султанский эмин, вырвав из рук несчастной матери. Да если кто и помнит о
нем, так разве лишь родная мать Ивица. Если не умерла от горя. А так -
один на свете, как месяц в небе.
он даже в воспоминаниях не хотел употреблять грубое слово <брошен>,
заменив его почетным <определен>.
ругани старших конюших, проходило его детство и, кажется, должна была
пройти и вся его жизнь. Постепенно он привык к теплому тошнотворному
дыханию конюшни. Лишенный свободы и желаний, пропитанный собственным и
конским потом, прикованный к этим четвероногим разномастным созданиям,
подчиненный их норову. Конюшня угнетала, не давая никогда передышки, но
одновременно и спасала от угрожающей власти огромного мира, который лежал
за ее кирпичными порогами, отпугивая боснийского мальчугана своей
непостижимостью и жестокостью. В конюшне только ты и кони, и ты словно бы
ценнее остальных людей благодаря дикой силе коней, и ничего людского для
тебя не осталось. Конюшня налагала свои обязанности, но одновременно
освобождала от всего, что человека преследовало, раздражало и мучило. Кони
были всегда только конями, в то время как люди, как известно, становятся
всем на свете и никогда не знаешь, чего от них ждать.
имя Драган), внешне неуклюжий, мешковатый, как все боснийские мальчуганы,
возле коней словно бы перерождался, становился юрким, умелым, никто на
конюшне не мог с ним сравняться, и кони, кажется, почувствовали это его
умение, а султан Сулейман, который, вспоминая свою молодость, иногда
приходил на конюшню ковать коней, хвалясь, что зарабатывает себе на хлеб,
заметил и выделил Рустема, и вскоре тот был определен (теперь уже в самом
деле определен) для присмотра за султанским вороным конем. И уже никто так
не умел тогда угодить Сулейману, никто не умел так вычистить и оседлать
султанского коня и так подвести его к повелителю, как этот хмурый босниец,
и Рустема возненавидела конюшня, затем, возненавидел султанский двор,
ненависть, как огонь по сухой траве, перекинулась на войско, чуть ли не на
весь видимый мир, потому что мир никогда не прощает успеха.
тем, чтобы они были вовремя расседланы, вычищены, вытерты до блеска, имели
увлажненный овес в желобах и свежее сено, выводил вместе с другими своими
товарищами коней на прогулку, а по ночам, когда никто не видел, гоняли их,
чтобы не застаивались. Кони боялись темноты, раздували животы под
подпругами, мелко дрожали, прядали ушами, щерили большие желтые зубы,
переступали с ноги на ногу, пугливо всхрапывали. Когда же вырывались из
конюшенной духоты, громко и радостно ржали и несли своих всадников в
темноту, в безбрежный простор, а те сидели на конях, настороженные,
чуткие, дикие от воли, уже и забыв, когда были людьми (потому что
оставались ими лишь во сне), и казалось им, что жизнь - это только вот
такая неистовая скачка на коне, все остальное - надоедливые обязанности,
скука и никчемность. Кони были послушными, верными, они мчались в безвесть
в темноте и в лунном сиянии, резкий ветер бил в лицо всадникам, и ветер
этот словно бы тоже имел масть этих коней - вороной, как крыло ночной
птицы, желтый, как лисий хвост, горячий и смердящий. Конские копыта били о
землю глухо и понуро, под такой перестук копыт эти кони будут мчать своих
всадников и в бездну. Рустему часто слышался этот перестук даже сквозь
сон, но он не боялся, не просыпался, облитый холодным потом, продолжал
спать, а если и пробуждался, то лишь для того, чтобы навести порядок в
конюшне. Иногда кони неизвестно отчего пугались ночью в своих стойлах, и
тогда угомонить их можно было только нечеловеческим криком, бросившись
бесстрашно к ним, нанося во все стороны удары с жестокостью, которая
царила лишь среди людей. Кони мгновенно затихали и уже не тревожились.
коней и проявлял при этом столько жестокости, что его невольно
остерегались все остальные конюшие, хотя никто из них отнюдь не
принадлежал к ангелам - были это люди черствые, злобные, ненавидящие.
Среди этих одиноких молчаливых людей Рустем рос еще более одиноким и
молчаливым, чем они. Высокий, понурый, кривоногий, с каким-то застывшим
лицом, скрытым в жестких черных зарослях, этот человек пользовался таким
всеобщим презрением и нелюбовью, что благосклонность к нему султана никто
не мог ни истолковать, ни просто понять. Рустем видел, какой ненавистью
окружен, но не заискивал ни перед кем, не боялся враждебности окружающего
мира. В его непокорной боснийской голове родилась мысль не только
отомстить этому миру, но даже уничтожать его всеми доступными ему
средствами. Но чем он мог отомстить? Презрением, которое мог выражать,
возвысившись над всеми благодаря непостижимой благосклонности Сулеймана?
Но достаточно ли молчаливого презрения, когда вокруг торжествует
жестокость? К тому же благосклонность и милость падишаха могут пройти так
же неожиданно и непостижимо, как и родились, - и тогда ты останешься
беспомощным, отданным на расправу и съедение, бессильным и безоружным.
Человек в этом мире должен иметь свое оружие. Как хищник - клыки и когти,
как змея - яд, как бог - громы и молнии, как женщина - красоту и
привлекательность. Не надо думать, что Рустем пришел к этому выводу
сознательно. Сопротивление рождалось в нем словно бы само по себе,
вызванное самой жизнью, неволей и недолей, а в особенности же окружающей
жестокостью. Точно так же, как бесстрашно бросался он навстречу ошалевшим
коням, стал Рустем ввязываться в людскую речь, бросая туда изредка злые
насмешливые слова, едкую брань, издевательские восклицания. Вскоре ощутил
в себе настоящий дар брани. Он бранился почти с гениальной грубостью. Те,
кого он ругал, не могли ему этого простить и возненавидели Рустема еще
больше, а он разгорался от этого еще сильнее, сыпал свою брань неутомимо и
щедро, вызывая восторг у посторонних слушателей и ненависть у тех, кого
ругал.
говорил Рустем.
тоже был безнадежно одинок на этом свете, и возвысил Рустема, сделав его
со временем начальником султанских конюшен - имрахором. Кажется, было
только трое людей в безграничной империи, с которыми падишах любил
разговаривать: любимая жена его Хасеки, всемогущий Ибрагим и этот хмурый
босниец, пропитанный острыми запахами конского пота и конской мочи.
Султану нравились мрачный юмор Рустема и его беспощадный язык. Сам
принадлежал к людям мрачным, но вынужден был эту мрачность сочетать с
величием, ибо этого требовало его положение. Потому охотно слушал
человека, не скованного ни долгом, ни положением, человека если и не
свободного до конца, зато своевольного. Тридцатилетним Рустем уже имел
самое высокое в империи звание паши, хотя не отличился ни в битвах, ни в
чем-нибудь другом, а умел только присматривать за конями, седлать их,
скакать на них и жить с ними.
малейшее место в сердце султана, оставался бессильным лишь перед двумя:
перед Роксоланой, чары которой превышали его хитрость, и перед Рустемом,
может, единственным человеком в империи, который говорил все, что думает,
и просто убивал своими словами. Про Ибрагима, когда тот стал всемогущим
великим визирем, а потом уже и сам себя называл вторым султаном,
безжалостно уничтожая своих противников, Рустем сказал: <Если бы сам аллах
пришел на землю, то и ему Ибрагим велел бы набросить на шею черный
шнурок>.
шаха. Когда зимовал в Халебе, прислал Рустему в Стамбул фирман, согласно
которому Рустему выделялся санджак Диярбакыр, на самом краю империи, возле
кызылбашей. Высоченные горы, вечные снега, пустынность, стремительные
реки, мечущиеся по равнине, изменяя свои русла, дикие племена, которые
никогда не успокаивались. Но раз тебя назвали пашой, поезжай править.
Рустем попросил султана, чтобы его оставили в Стамбуле при конюшне, но
Сулейман не захотел вмешиваться в действия своего всемогущего любимца.
<Вот приедет Ибрагим из похода, тогда скажу, чтобы вернул тебя обратно>, -
сказал ему султан.
некому было выполнять повеление султана, - так Рустем остался в
Диярбакыре. Знал, что при дворе целые толпы прихвостней, продраться сквозь
которых, чтобы попасть к султану, нечего и думать. Хотя теперь, как
санджакбег, Рустем вынужден был иметь дело с людьми, но все равно не мог
избавиться от ощущения одиночества, о котором забывал лишь тогда, когда
оставался с конями, когда шел на конюшню, где было чисто, как в мечети, а
тяжелый запах конской мочи и навоза словно бы отгораживал тебя от суеты и
скуки мира.
сопровождением) ездить верхом на коне по ночам, скакать по бездорожью, под
чужими звездами, неизвестно куда и неизвестно зачем.
вечером на коне, а между деревьями гнался за ним узенький, будто ниточка,
золотой серпик молодого месяца, скользил по небу неслышно, таинственно, не
отставал и не обгонял, но вот дорога сделала поворот, и месяц оказался
далеко впереди, и теперь уже он убегал, а Рустем догонял его и не мог
догнать. Потом дорога внезапно выскочила на темную округлую вершину, всю в
высоких деревьях, и месяц упал вниз и теперь проскальзывал между стволами,
чуть ли не у корней, но тут дорога снова пошла в долину (Рустем
почувствовал это, сползая под тяжестью собственного тела на переднюю луку
седла), конь нес всадника вниз, ниже и ниже, земля под копытами уже не






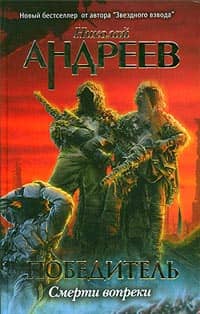 Андреев Николай
Андреев Николай Пехов Алексей
Пехов Алексей Самойлова Елена
Самойлова Елена Корнев Павел
Корнев Павел Майер Стефани
Майер Стефани Круз Андрей
Круз Андрей