бы золотые>. Или еще: <В Стамбуле пожаров хоть отбавляй, а в Анатолии
податей хоть отбавляй>.
Михримах не похожа была на свою мать. Та сразу поняла науку молодого
конюшего, а эта жеманилась и дурила голову новоиспеченному визирю, как
будто решила во что бы то ни стало вывести его из терпения. Напрасные
надежды! Рустем потихоньку сплевывал в дресву под ноги коню, терпеливо
переводил дыхание, следуя рядом со скучающей всадницей, теперь уже твердо
зная, что в диван он въедет если и не на собственном коне, то следом за
конем, который везет на себе Михримах. Когда подсаживал на коня султанскую
дочь и ощущал под твердой рукой своей мягкую царственную плоть, в нем
что-то словно бы даже вздрагивало. Удивлялся и ненавидел себя. Замечать
чье-то тело означало замечать и тело собственное. А до сих пор, кажется, и
не замечал его, оттачивая на бруске ненависти свой непокорный дух. Он
сердито сплюнул от неприятного открытия и сделал это так откровенно, что
Михримах заметила и стала привередничать сильнее, чем всегда. К счастью,
Рустема в то утро спас пожар.
верфях и в еврейском участке Хаск"й. Но огонь сразу же перекинулся через
залив, а еще быстрее понесся по Стамбулу отчаянный крик: <Янгуйн! Янгуйн!>
- <Пожар! Пожар!> - и все живое бежало в ту сторону, где царило пламя,
одни бежали подолгу, другие из любопытства, третьи от злорадства. Тушить
пожар имели право только янычары. Хотя возле каждого дома должна была
стоять большая кадка с водой и хозяин обязан был держать лестницу вышиной
в свой дом, который согласно предписаниям не мог превышать двух этажей,
лить эту воду на огонь могли только янычары, присматривавшие за городским
участком. Они прибегали на пожар первыми, окружали пылающий дом, отгоняя
саблями даже хозяев, когда видели, что в доме есть что-то ценное, поскорее
вытаскивали из огня, а потом ждали, пока сгорит, зная, что серебро и
золото превратятся в слитки, которые легко найти в пепле, а все остальное
не имело для них ценности.
своей привередливой принцессы, и смело придержал коня Михримах.
собрано было все самое злое и от султана, и от султанши. У Рустема
засосало под ложечкой от этого взгляда, на языке у него так и вертелись
слова тяжелые, как камни, но он загнал эти слова в такие глубины, откуда
они не могли уже выбраться. Стараясь придать покорность своему грубому
голосу, хмуро произнес:
пускай сгорит хоть и весь Стамбул, он будет дуть в одну дудку: <Ничего не
видел. Ничего не знаю>.
не идет>.
Тебе так хочется на этот пожар?
проводят в Топкапы.
что в Стамбуле стоял ужасный июльский зной.
бы иначе пожар переметнулся через Золотой Рог, гигантскими перескоками
помчался по столице, захватывая новые и новые участки? Несколько участков
выгорело дотла, пожар уничтожил поставленный еще Фатихом дворец
Эски-Серай, сгорел наполненный заключенными зиндан, превратился в дым
огромный деревянный базар, погибла библиотека Матьяша Корвина, вывезенная
Сулейманом из венгерской столицы, огонь добрался даже до каменного
Бедестана, на котором расплавилась оловянная крыша.
вполз в столицу черный мор, и смерть косила людей тысячами, не
останавливалась и перед порогами дворцов, - так умер великий визирь
Аяз-паша, оставив гарем со ста двадцатью детьми и воспоминания о себе как
о самом глупом из всех известных визирей. А поскольку дураки всегда
мстительны, то многие вздохнули облегченно, услышав о смерти Аяз-паши.
Даже Роксолана не сдержала своей радости перед Сулейманом, хотя и знала,
что грех радоваться чужой смерти:
был будто мертвый, потому что не имел в себе слова. Человек же, лишенный
слова, хуже зверя. Зачем ему жить?
на измену Ибрагима. Хотел, но не умел сказать.
распознал презренного грека? А этот несчастный Аяз-паша принадлежал вроде
бы к тем, кому поручено, чтобы глупость не исчерпывалась на этом свете.
Хотя, может, глупые тоже нужны, чтобы видно было умных. Кого теперь
поставите великим визирем, мой повелитель?
не было возможности отличиться на войне, пусть попробует на пожаре.
купил у верующих их души и их достояние за то, что им - рай>.
неведомый, таинственный, угрожающий и неприступный, изнутри диван
показался Рустему сборищем напыжившихся баранов. Аяз-паши уже не было, но
еще словно бы жил его дух среди этих ковров, приглушенных голосов,
гнетущего молчания. Султан молча смотрел каменными глазами на своих
визирей, никого не узнавая, никого не допуская ни к произнесению речей, ни
к размышлениям, и под таким взглядом человек чувствовал себя вроде бы
бараном. Не диван, а кучка баранов. Аяз-паша был глупый, как баран.
Лютфи-паша упрямый, как баран. Евнух Сулейман-паша жирный, как баран. А
он, Рустем, отощавший, будто баран после снежной зимы. Счастье, что в
Стамбуле свирепствовал пожар, и он снова бросился туда, захватив с собой
янычар, метался среди пепелищ, кого-то ловил, бросал в зинданы, за кем-то
гонялся, кого-то преследовал, падая с ног от усталости и рачительности,
весь прокопченный, подобно кюльханбею*, над которым потешается детвора.
Теперь уже не было времени для собственных насмешек, зато насмехались над
ним стамбульские бездельники - левенды: <Старается, будто хочет понести
два арбуза под мышкой>.
Стамбуле, неожиданно перелетел ночью через Босфор, поджег Ускюдар, там
поднялась беспорядочная стрельба, как будто ворвался туда враг, хотя
откуда бы он мог появиться в самом сердце грозной империи?
берег и пропал на несколько дней, будто погиб в огне, но родился из пепла
живой и здоровый, только еще более прокопченный и совсем охрипший. Пожар
наконец отступил, теперь только дотлевало то, что не сгорело окончательно,
погорельцы разгребали пепелища, принимались ставить новые дома, каждый при
этом мечтал захватить участок больший, чем имел раньше, или же
придвинуться поближе к главному пути стамбульской воды, шедшему вдоль
Кирк-чешме.
раньше, придерживал поводья ее коня, бежал рысцой следом, когда султанская
дочь пускала коня вскачь.


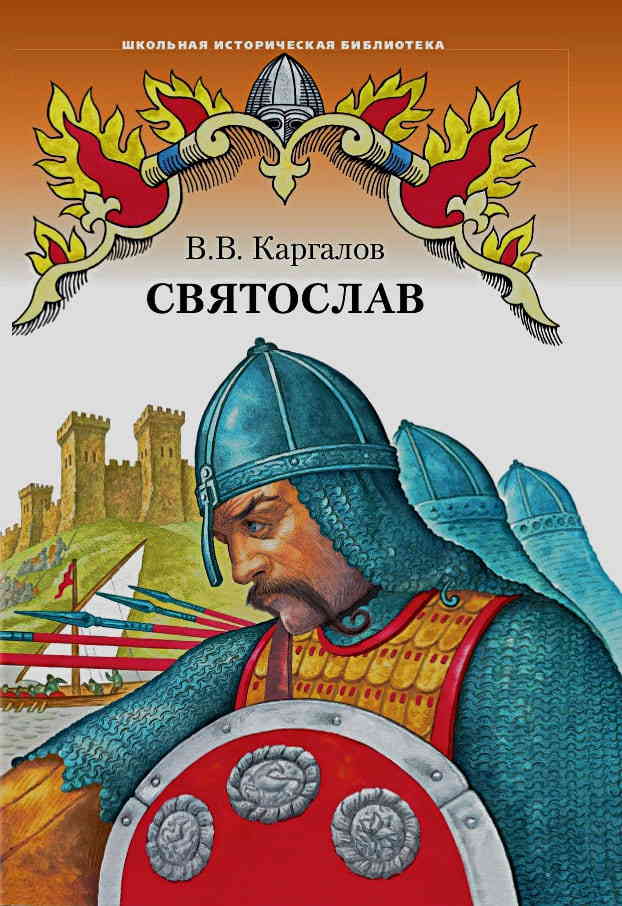
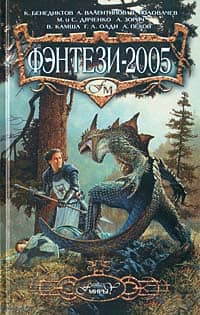


 Громыко Ольга
Громыко Ольга Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Суворов Виктор
Суворов Виктор Андреев Николай
Андреев Николай