прислужники и обманщики купались в этих слухах, как в райских реках
удовольствия, одна лишь султанша ничего этого не слышала, не знала, забыла
и о султане, и о коварной челяди, и о себе. О боли своей душевной, о своей
недоле, о своем народе. Она не видела казаков, которые мучились где-то в
подземельях Эди-куле, не представляла их живыми, не слышала их голосов,
даже песня загадочного Байды не откликалась в ней, потому что слух ее
наполнен был песнями собственными, горькими воспоминаниями о своих
истоках, недостижимых теперь ни для памяти, ни даже для отчаяния. <Ой,
летить ворон з чужих сторон, та ножки пiдiбгавши. Ой, тяжко ж менi та на
чужбинi, родиноньки не мавши...> Первые пятнадцать лет ее жизни, на воле,
на родной земле, разрастались в ней, будто сказочный папоротник, все
пышнее и пышнее, но, верно, должен быть на нем и тот волшебный цветок,
которого никто никогда не видел, но вера в который держала ее на свете. О
цвет папоротника, народ мой!
земле. Разбросанный по широким степям, среди раздольных рек и лесов,
растерзанный захватчиками-властелинами без меры, без проку, без веры, но
единый, могучий и добрый ко всему живому, растущему и цветущему, к солнцу,
звездам, ветрам и росам. Сколько было завистливых владык, охочих,
враждебных, которые хотели согнать этот народ с его земли, поработить,
согнуть, уничтожить. Казался он всем чужеземцам таким добрым, кротким и
беспомощным, что сам упадет в руки, как перезревший плод. А он стоял
непоколебимо, упорно, тысячелетия, враги же погибали бесследно, аки обре,
и над их могилами звучали не проклятия, потому что ее народ не умел
ненавидеть, и не молитвы, потому что верили там не в богов, а в
жито-пшеницу, в мед и пчелу, потому что там до самого неба лилась песня:
<Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?..> Окрестные захватчики считали свои
победы, а ее народ мог считать разве лишь урон, причиненный ему то одним,
то другим врагом, но не жаловался, терпеливо переносил горе и беду, еще и
посмеивался: <Черт не схватит, свинья не съест>.
теряла времени напрасно, перелистала целые горы пожелтевших рукописей в
султанских книгохранилищах, читала поэмы, хроники, описания сурнаме*,
кичливую похвальбу - и всюду только победные походы, звон мечей, свист
стрел, стон погибающих, озера крови, ужасные вороны над телами
поверженных, черепа, как камни, муравьи, черви, гадюки. Сурнаме были
словно бы продолжением войны, здесь тоже убивали простых людей, но не
мечами и пушками, а недоступной для бедных пышностью, несносной
торжественностью, шумом, топотом, давкой.
непоколебимо придерживались предписаний, вынесенных еще их предками,
может, из далекого Турана, записанных огузскими ханами: <Отец огуз-ханов
провозгласил и определил тюре - пути и наставления его сыновьям. Он
сказал: учитывая то, что ханом с течением времени станет Кайи, да будет
провозглашен он бейлербеем* правого крыла. Но в соответствии с тюре
бейлербей должен быть также и у левого крыла. Да будет им Байиндыр. Тюре
угощения тоже должно иметь такой порядок, о брат мой: сначала должен
садиться Кайи, затем Байяи, затем Алкаевли и Караевли, после них пусть
садится Язир, а за ним Дюкер, а уже потом, разумеется, Тудирга, Япурлу,
Явшар, Кызык, Бедели, и самым последним на правом крыле - Каргин.
подарки, ставить кумыс и кумран. И как пьются сообразно со старшинством
кумыс и кумран, так пусть раздаются должности и звания беев между коленами
и родами, а если что-нибудь останется, могут воспользоваться и другие>.
только за то, что записана она предками, - сливается у этих людей в
понятие отчизны, со слезами на глазах они восклицают: <О ватан, ватан!>
(<О отчизна, отчизна!>)
пышности и славы, которая погибла под обломками соборов, разрушенных
ордами диких ханов? Тайные письмена, спрятанные за монастырскими стенами,
печальные песни да цветистые думы о несметном богатстве Дюка Степановича и
невиданной красоте Чурилы Пленковича. Народ не хвалился и не жаловался,
изливал в песнях и шутках все свои кривды и свою недолю, нес в своей крови
печаль степей, а в памяти красу и бессмертие золотого Киева, оберегал свою
душу - и так выдержал века.
отдай. Она все же отдала, потому что была бессильной, собственно, мертвой.
Но ведь воскресла и обрела силу. А вспомнила ли о своем народе на
заоблачных вершинах султанского могущества, шевельнула ль хоть пальцем,
чтобы убавить кривды, причиняемые османскими головорезами? Теперь они
поймали ее братьев и называют разбойниками лишь за то, что они хотели
отомстить хотя бы малость. А что она, могущественная султанша? Что будет
делать теперь, что делала прежде? Посылала деньги в Рогатин, посылала
сына-недоростка в Рогатин, да и сама поехала бы в золоченой карете в
Рогатин, чтобы возродить в памяти отцовский дом на взгорье, росные утра и
кукушку на ольхе! Народ мой, почему не сумела сделать для тебя добро?
самого утра Роксолана шла в сады гарема, бродила там, избегая встреч,
прогоняя с глаз надоедливых евнухов и угодливых служанок, слушала голоса
птиц и журчание воды в фонтанах, искала успокоения в голубом сиянии моря,
в перешептывании деревьев, в ярких вспышках цветов, но не было спасения и
там. Хотелось живого слова, сочувствия, совета, поддержки, да только где
ты все это найдешь, где услышишь, если вокруг все молчит, убитое рабством,
уничтоженное страхом, задушенное насилием?
которой остановилась султанша, молодой девичий голос. Евнухи метнулись
туда, чтобы заткнуть рот нарушительнице покоя, но Роксолана движением руки
остановила их, прогнала прочь, а сама остановилась оцепенело и слушала,
слушала... Молодая болгарка-рабыня печально пела о том, как из белого моря
выросло дерево, вершина которого доставала небо, ветви стелились по земле,
цвет на нем серебряный, плоды перламутровые, а маленький птенец соловей
сидел на дереве, плакал, выщипывал на себе перышки и бросал в море.
Проходивший мимо царь Константин спросил птенца, о ком он так тоскует. И
ответил птенец:
чернявая тоненькая рабыня-девочка не успела не только убежать, но даже
испугаться, приблизилась к болгарке, обняла ее, поцеловала, заплакала, а
потом сказала: <Будешь свободной>. И так же неожиданно, как появилась,
исчезла, удивляя даже равнодушных ко всему на свете евнухов.
возле друга Сулейман и Роксолана, и Топкапы замирали от райских восторгов,
забыв о всех своих пророчествах, отбросив неуместные опасения, спрятав как
можно глубже злорадство.
что это он наконец пришел к ней, как беззащитный раб, как побежденный
воин, как изгнанник и нищий. И когда подала ему милостыню когда ошеломила
его поцелуем, взглядом и молчанием, очертание ее единственных в мире уст
показалось ему дороже всех его побед, всех покоренных безбрежных
просторов, могущественнее гигантской державы. Одолеть мог самых грозных
врагов, но только не самого себя, не свое преклонение перед этой женщиной.
государственные дела и государственные обязанности, - а она покорно
молчала, как бывшая маленькая рабыня, такая же маленькая и тоненькая,
будто девчонка, будто былинка, ему даже страшно становилось: а вдруг
сломается в его тяжелых и цепких объятиях, султанских объятиях... Обнимал
весь мир, а перед глазами стояла эта загадочная женщина. Что в ней? И
зачем, и почему, и до каких пор? Испокон веков рабынь своих султаны
одаривали драгоценностями, чтобы сияли золото и самоцветы в сумерках
султанских ложниц, напоминая о богатстве, величии и могуществе. А у Хуррем
сияло тело. Да еще как ослепительно!
услышал, - почему вы меня покинули, почему забыли? Может, я не мила вашему
султанскому сердцу? Но ведь если женщина надоела, достаточно трижды
произнести по-арабски ритуальное <Талак, талак, талак!> - <Ты свободна, ты
свободна, ты свободна!> - и конец всему, меня не будет, я исчезну, умру,
полечу, как маленький аист, в дальние края.
не от меня, а для меня. Свободна для меня.
женщине недостаточно слов. Она все хочет превратить в поступки, так как
принадлежит к миру ощутимых вещей: носит воду и дрова, разжигает огонь,
чтобы согревать жилище и варить еду, - это для нее дом и семья.



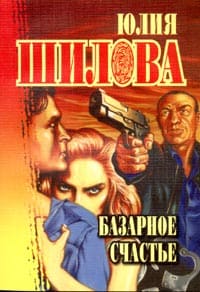


 Русанов Владислав
Русанов Владислав Березин Федор
Березин Федор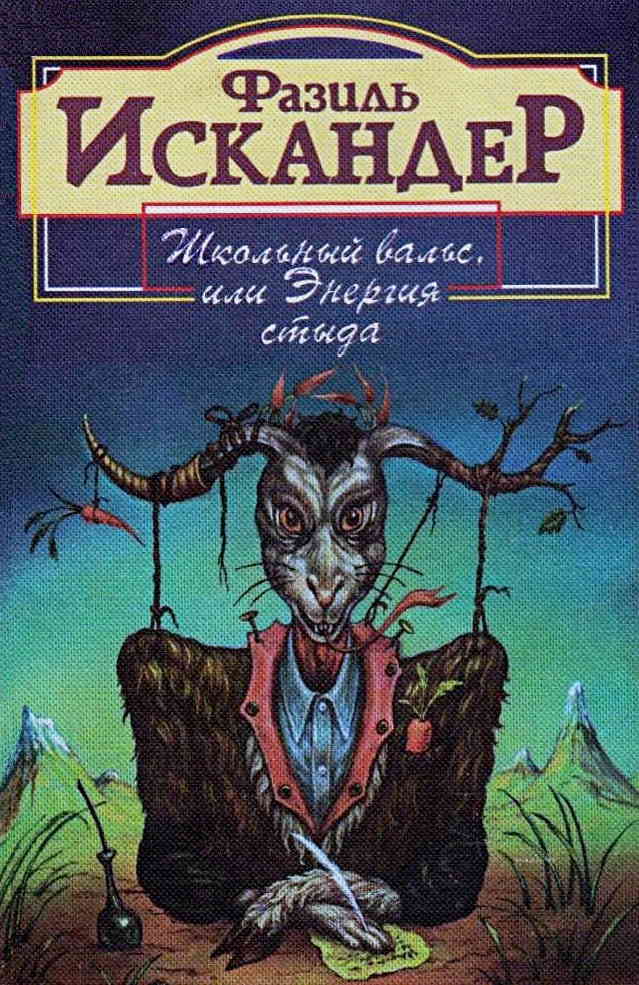 Фазиль Искандер
Фазиль Искандер Самойлова Елена
Самойлова Елена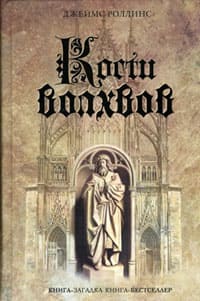 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Махров Алексей
Махров Алексей