что сдался на уговоры Хасеки и прибыл сюда, сам не зная зачем. Зато
Роксолана уже не могла больше сидеть возле Сулеймана, сошла с лектики,
сверкнула драгоценностями, тонкие шелка встревоженно затрепетали на ее
гибком теле, легкое тело покачнулось, будто редкостное растение, которое
неведомо как попало из сказочных садов в это мрачное подземелье,
бесстрашный казак громко хлопнул себя по кожаным шароварам, с напускным
испугом в голосе воскликнул:
Затем на Баязида и Михримах, стоявших впереди всех вельмож. Баязид смотрел
на казака с нескрываемым мальчишеским любопытством. Михримах посверкивала
из-под шелкового белого яшмака большими черными, как у Сулеймана, глазами,
и трудно было понять, что творилось в ее душе. Зато Роксолана хорошо
знала, что происходит в ее собственной душе. Намерение неожиданное, как
откровение, отозвалось в ее сердце, она в бессилии подняла руки к груди,
но не прижала их беспомощно, а вовремя опомнилась, показала обеими руками
Рустем-паше, чтобы он вывел Байду из мрака и поставил его перед ней. Сам
бросил этого рыцаря в подземелье, сам должен был и вывести.
в цепях, до сих пор еще они словно бы звенели на его могучем молодом теле,
но не стал рабом ни на миг, дух его не сломился, не покорился. А она
когда-то не смогла найти в себе такой силы. Она не боролась, не
сопротивлялась, ее продавали на рабских базарах, отнимая у нее все
людское, бросая ее в мир животный. У раба, которого продают и покупают,
нет выбора. Но у него есть память и глубокое скрытое стремление мести. Оно
ошеломляет, оно убивает, будто даже уничтожает, а потом рождает тебя
заново и гремит в твоем сердце, как медные колокола набата.
власти, для борьбы за власть, а дочь - для нее. Она отомстит своей
дочерью! Сама уже не могла вернуть прошлое, зато могла вернуть своему
народу свою дочь. Сама уже никогда не согреется чужим солнцем и чужим
счастьем - знала это твердо, расстояния между потерями с каждым днем все
больше будут сокращаться для нее, равнодушие будет заливать душу, вот
почему нужно одолеть равнодушие, пока есть еще силы. Месть и милосердие,
милосердие и месть!
услышать? А вот я! Казак Байда! А там мои товарищи! Сбили кандалы с меня,
так сбивайте и с них. Мы всегда вместе! Да только не выпускай нас живыми,
султан, потому что и твою родную мать убил бы, и твоего отца сжег бы, и
брата твоего зарезал бы, и дочь твою украл бы, и над сестрою надругался
бы!
лектики, чтобы оскорбительные слова казака не поразили его высокого
достоинства. Так было лучше и для нее. Сулейман молча отдавал Байду ей.
Великий визирь Лютфи-паша пошевельнулся было, чтобы подойти к ней, она
остановила его кивком головы. Рустем-пашу отогнала от казака суровым
взглядом. Стояла перед обнаженным до пояса богатырем бесстрашно, с вызовом
в хрупкой фигуре, сказала ему негромко на своем (и его!) родном языке:
издевался?
сорочки не имеет.
выслушать меня. Ты видишь, сюда прибыл сам великий султан Сулейман, перед
которым дрожит полмира.
или в Аккермане.
защищать нашу землю от крымчаков.
допустила, чтобы орда вытаптывала маленьких детей?
не поймал?
дочь, и паша, и войско, а ты лишь стой да охраняй свою землю. Что же я
должен за это? Сорочку последнюю? Так уже содрали! Шаровары эти кожаные?
Так и они турецкие, потому как содрал их с турецкого хозяина галеры. Что
же тогда?
слабую женщину.
раз.
холодного голоса, который твердо прозвучал из-за шелковых занавесок
султанской лектики:
его!> - и вокруг Байды моментально закипело, забурлило. Даже имамы
подступили ближе, с удовольствием повторяя слова султана, ибо они были
словно прочитаны из книги книг - Корана: <Возьмите его и свяжите!.. Ведь
он не верил в Аллаха великого...>
Связанного можно развязать. Заточенного освободить. Но мертвого не
воскресишь. Никогда, никогда.
связали сыромятью и потащили прочь. И без промедления отвезут на Галату, и
бросят с высокой башни, в стенах которой торчат огромные ржавые крюки, и
он будет мучиться на одном из них день, и два, и три, и уже не снимешь его
оттуда, ибо все равно умрет, погибнет, крюки эти - конец. Боже, боже,
зачем он так, зачем плюнул ей под ноги, а если уж и плюнул, то лучше бы в
лицо, она для этого еще и яшмак приоткрыла бы. Так ей и надо, так ей и
надо...
евнухи, что несли лектику, подхватили султаншу, помогли ей сесть рядом с
Сулейманом. Тот махнул, чтобы шли к карете. Вс" молча. Не обмолвился с
Хасеки ни единым словом, ни единым звуком. Она с ним тоже. Не умоляла о
милосердии для неразумного казака, не просила и не требовала ничего. В
постели, в объятиях, наедине со звездами и темнотой, могла просить у него
хоть целый мир, обнимая Сулеймана руками ласковыми, как шелк, превращая
султана в раба. Но все это тайком, скрытно, в своих женских владениях, на
ложе своей любви и позора, а не на людях, не при визирях, при муфтии, при
имамах и янычарах. Здесь султан должен быть неприступным даже для нее,
здесь всемогущий повелитель только он, единственный и всегда, и пусть
верят в это все, и прежде всего он сам. А она? Должна была бы упасть перед
ним на колени, рыдать, биться о грязный камень, вымаливать помилование для
того рыцаря, для самой себя, для своего народа - и не могла. <Народ мой,
прости меня, хотя и не можешь! Потому что я уже отуречилась,
обасурманилась, погрязла в роскоши и лакомствах турецких!>





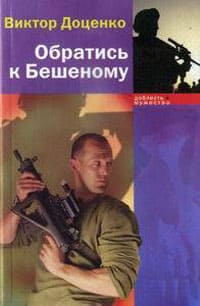
 Посняков Андрей
Посняков Андрей Посняков Андрей
Посняков Андрей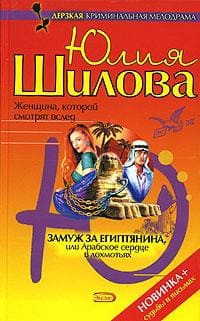 Шилова Юлия
Шилова Юлия Каменистый Артем
Каменистый Артем Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Елманов Валерий
Елманов Валерий