поверх которых были постелены скатерти из египетского полотна. Рои хавашей
закружились по саду, нося на протянутых руках деревянные подносы,
серебряную и золотую утварь, дорогое стекло, яства, напитки, сладости,
расставляя все это уже не рядами, а штабелями, одно на другое, так что
перед шах-заде и его сотрапезниками громоздились целые горы лакомств. По
правую руку от шах-заде сидел его визирь Соколлу, по левую руку - имам и
поэт. Имам благословил трапезу, Мехмед дал знак, ударили барабаны,
заиграли зурначи, зазвучали струны сазов, полилось вино, хотя и
недозволенное пророком, но непременное во время великого торжества
исламского оружия и прославления великого султана Сулеймана, да продлит
аллах тень его величия, пока сменяются дни и ночи. Из этой же Манисы
когда-то вышел султан Сулейман. Маниса для него это молодость, но и
изгнание, ожидание престола, но и каждодневный страх за жизнь. Для
шах-заде Мехмеда это последняя ступенька к трону, золотая ступенька, над
которой, как в раю, нависают золотые яблоки счастья и надежды, ибо он
наследник!
конца, длился целый день, продолжался вечером, ночью хаваши зажгли фонари,
светильники, факелы, продолжало литься вино, обгладывались бараньи
ребрышки, тек по бородам сладкий сок плодов, никто не отваживался встать:
кто встанет, тот навеки утрачен для шах-заде Мехмеда, - приходилось
терпеть, трещали желудки, чуть не лопались мочевые пузыри, съеденное и
выпитое подступало к горлу, а визирь Мехмед-паша выкрикивал новые и новые
слова в честь великого султана и его высокодостойного наследника, Соколлу
не знал усталости, как не знал усталости и утлый телом, но железный духом
шах-заде. Музыканты рвали струны на сазах от старательности, придворный
поэт читал бесконечную <Ишретнаме> прославленного Ильяса Ревани, здесь
лилось вино, там рассказывалось, как виноградная лоза попала в эту
благословенную землю. Один арабский вождь увидел однажды, что змея хочет
съесть голубя. Вождь убил змею, в знак благодарности голубь принес своему
спасителю лозу и посоветовал давить ягоды и пить сок. Когда надавили соку
и дали умирающему, тот выздоровел. Он рассказал, что после первой чаши
почувствовал, как веселье входит в его душу, а после второй понял, что
стал падишахом.
падишахом, не пьянел, только все шло у него перед глазами кругом, уже не
узнавал никого, не ощущал своего тела, не знал даже, где он, жив или
мертв. Привык к плохому самочувствию, но так скверно еще не чувствовал
себя, наверное, ни разу за все двадцать два года жизни, и все же держался,
сидел ровно, не клонился, не звал на помощь, так что даже вечно
настороженный, как дикий зверь, визирь Соколлу не почувствовал ничего и
встревожился только тогда, когда заметил, как рука Мехмеда слепо ищет
что-то в воздухе, не может найти, мертво падает, снова хочет подняться,
еле вздрагивает и...
повелитель!..
и сам - живой или уже мертвый?
шах-заде. Прикоснешься - упадет и уже не поднимется.
неподвижности, он медленно промолвил:
утешая ее, сказал: <Иногда бывает радость, иногда печаль. Так повелось,
так и будет> (<Гяхи сюрур, гяхи недер, бь"йле гельмиш, бь"йле гидер>).
удержать его на этом свете.
суру Фатиха за упокой души шах-заде. Мехмед Соколлу, этот жестокий,
безжалостный человек, заплакал, наверное, впервые в своей жизни и начал
тереться лицом о ногу покойника. Потом вспомнил, что когда-то слышал, как
славяне, когда хотят сохранить тело покойника, кладут его в мед, а был
все-таки славянином, хотя бы по происхождению, хотя бы в глубочайших
закоулках своей жестокой души, потому-то немедленно велел раздобыть
большую бочку, наполнить ее медом анатолийских пчел, который так любил
шах-заде, так как мед этот вызывал горячку в его холодной крови и сны об
огне; тело умершего положили в мед, и сам Соколлу повез его в Стамбул.
раскаленных камнях Анатолии, печальный караван был будто судьба самого
Соколлу, будто сгусток его далекого боснийского детства, будто его
огрубевшая душа, очерствевшая в этой земле, полной камней, отчаяния и мук.
Умирают даже султаны, умирают их сыновья и нежнейшие красавицы, а муку
оставляют на земле, и ее становится не меньше, а, наоборот, все больше и
больше, и падает она на плечи таких вот бывших мальчишек, взятых в рабство
за дань крови, и души у этих мальчиков становятся каменными, и в них кипит
яд, как в анатолийских змеях. Какое им дело, сгорит ли земля от огня или
погибнет трава от вола.
радостную весть, не знал, что ждет его самого в столице, может, и смерть
за то, что не уберег шах-заде, зловеще шевелил своими твердыми губами под
черными усами, шепча про себя: <Клянусь мчащимися, задыхаясь, и
выбивающими искры...>
хотела верить гонцу, хотя сама уже знала, что это правда. Султан был
далеко, возле нее только Михримах да двенадцатилетний, такой же хилый,
каким был Мехмед, Джихангир, черная весть выпадала лишь на ее долю. Черная
весть и черная боль. Еще не хоронила своих сыновей. Абдаллах умер, только
родившись, маленького его табута-гроба она тогда и не видела, а теперь
обречена была всматриваться в мертвое лицо обмытого, набальзамированного,
спокойно-прекрасного, но мертвого Мехмеда, и мир окутывался для нее
непроницаемым туманом. Сама когда-то учила Мехмеда детской припевке, когда
наползала с Мармары на сады Топкапы густая мгла: <Аламын илькыим, караджа
илькыим, кылынан боярым, килиджинан кесерым! Вар, гит, кь"р, дурман!> (<Я
первенец своей матери, я темно-бурый лис, я задушу туман волосом, изрублю
мечом! Убирайся прочь, проклятый туман!>)
сося ее вымя, ибо он единственный из всех млекопитающих рождается с
зубами; точно так же, как родились зубатыми все ее сыновья, чтобы было чем
грызться за власть, которая для каждого из них была жизнью. Счастливы
люди, которые могут жить без власти.
обгорело, иссохло... Я стала как сова на руинах; не сплю и сижу, как
одинокая птица на кресте>. Нарушилось великое число <пять>, из него
вырвано самое дорогое звено, рассыпалось оно крошками на ветру. Крошки
разве лишь для того, чтобы бросить птицам, чтобы жили хоть они, ибо уже
люди здесь все мертвы, а может, мертвы и ангелы. Человеком здесь быть не
стоит, ангелом быть не стоит, надо быть богом или ничем.
девочка, стояла тридцативосьмилетняя султанша над телом своего самого
старшего сына, над своей умершей самой первой надеждой - и ни звука от
нее, ни вздохов, ни движения, только падал на нее небесный ветер, тяжелый
и мертвый, будто тело мертвого сына, ни трепета крыл ласточек, ни дрожи от
прикосновения ладоней, ни буйных вод, которые сносят и заносят в безвесть.
Умирают самые лучшие. <Сын мой, дитя мое, мягка ли твоя деревянная
постель, мягок ли белый камень в изголовье?>
повелений.
джамию султана Селима и теперь сооружал самую большую из османских мечетей
- Сулеймание, удивляя всех величием здания, а еще больше упрямой
медлительностью в работе. Синан прибыл к султанше без пышности, в простой
рабочей одежде, словно бы в знак траура по умершему щах-заде. Был он стар,
как всегда, усталый, с равнодушными, как у венецианского художника,
глазами. Роксолана приняла его ласково, попросила сесть, угостила
сладостями, помолчав, спокойно сказала:
султану, а Сулеймана в Стамбуле нет. Но Роксолана, удивляя опытного
зодчего, сказала:
найдена могила барабанщика великого Фатиха - Мустафы. Пусть нашего сына и
после смерти вдохновляет гром победных барабанов Мустафы.
вскоре ляжет там еще один Мустафа, самый первый сын Сулеймана, но был
слишком осторожным и обходительным с властелинами, чтобы впускать себе в
голову такие мысли. Молча поклонился, и султанша отпустила его.
строительство, сидела за плотными занавесками, изредка выглядывая наружу.
Следя за тем, как возят и перетаскивают камень, готовят раствор, подбирают
пестрые изникские плитки для украшения стен, думала, сама не зная о чем, -
не могла ни уловить, ни задержать ни единой мысли. Иногда звала к себе
Синан-пашу, который трудился наравне со своими помощниками и простыми
рабами, допытывалась, не спрашивая: <Как жить дальше? Где спасение? Где?>
осторожно рассказывал ей о своих строениях, о тайнах мира, которые






 Посняков Андрей
Посняков Андрей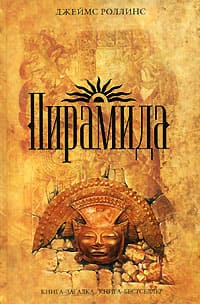 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Маркеев Олег
Маркеев Олег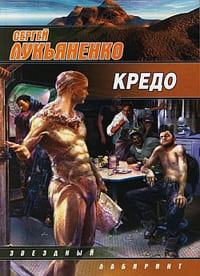 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Мороз Александра
Мороз Александра Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав