долго стояла, смотрела на заточенных гигантских птиц. Птицы посматривали
на нее с убийственным равнодушием, словно бы ее уже давно не было на
свете. Не существовало для них ничего, кроме жертв, а теперь сами стали
жертвами людского коварства и жестокости, потому и смотрели на людей со
злобным презрением. Нахохлившиеся, чернокрылые, какие-то землистые, будто
умершие, смерть во всем - в стальных когтях, в каменном клюве, в
остекленевших глазах цвета перьев, будто посыпанных землей. Сидят,
дремлют, ничего не хотят знать, только сны - о полетах, о высоте, о
свободе.
другой, идя вдоль каменной стены, открыла все, отступила, взмахнула
руками, будто на кур: <А киш, киш!> Орлы сидели неподвижно. То ли не
верили, то ли не хотели получать свободу от этого слабого существа, то ли
не хотели покидать ее в одиночестве? Однако жалость все же была чужда им.
Один, за ним другой, третий, тяжело выбирались они из своих темниц,
неуклюже взлетали на верхушки деревьев, будто ожидая всех остальных или
убеждаясь, что здесь не таится какое-нибудь коварство. Только после этого
устремились они ввысь, все в разные стороны, но все вверх, вверх, пока не
скрылись с глаз.
отчаяние...
Эдирне-капу, чтобы по первому снегу ловить на размокших пустынных глиняных
полях куропаток, у которых подмокли крылья и они не могли летать. Кормили
куропаток целую зиму в золотых клетках, а после новруза снова выехали за
Эдирне-капу, где все уже зеленело и цвело. И каждый из малых ее сыновей
выпускал птичку, приговаривая: <Азат, бузат, дженнети гь"зет!> (<Вот ты
свободна, так охраняй рай!>)
именуемой жизнью султанши, матери султанских сыновей, и она должна до
смерти охранять здесь рай, но не для себя.
добродетельностью, милостью и величием.
она подзывала к себе только старого Коджа Синана. Пояснял, как
продвигается строительство мечетей Сулеймание и Шах-заде. Она снова
кружила и кружила по запутанным улицам огромного города, проезжая мимо
мусульманских базаров, византийских площадей, акведуков, цистерн, не могла
остановиться, что-то искала и не могла найти. Несколько раз возвращалась к
маленькому невольничьему базару между форумами Константина и Тавра. Какое
глумление над людьми! На одном форуме византийские императоры появлялись
во всей своей пышности, на другом - императорские палачи выжигали глаза
пленным болгарам. А теперь между этими памятниками христианского жестокого
величия мусульмане продают людей в рабство, потому что, мол, в хадисе
пророка сказано: <Узы рабства продлевают жизнь>.
невольничий рынок Стамбула. Вышла из кареты, обошла весь базар, где уже
было полно рабов, захваченных султаном у кызылбашей, мусульмане продавали
теперь мусульман, но ведь они такие же люди и такой же позор!
наблюдал за всем, что происходило на невольничьем рынке. Его давно уже не
трогала мирская суета, он сосредоточился на своих замыслах, превосходивших
возможности человеческой природы. Роксолана иногда поглядывала на зодчего,
не скрывая любопытства в глазах. Хотела бы проникнуть в его душу,
разгадать ее необычную сущность. Вот человек! Пришел на свет и ушел, а
строения будут стоять века, величественные, как его душа. Но и они не
передадут всей глубинной сути. Станут только оболочкой его души. А чем
была она наполнена? Никто никогда не узнает. Горе? Страдание? Восторг?
Неужели пристрастия не исчезают, не рассеиваются, как пылинки в поле, а
могут обрести окаменевшую форму и стать красотой навеки?
- большое медресе, приют для бедных и больница.
послушно склонил голову зодчий.
падишаха всего этого, разумеется, не сделать, но и затягивать на долгие
годы следует ли? А то за всю жизнь и не успеешь ничего закончить.
концу даже сами по себе. Как говорят: пока дом строится, хозяин не умрет.
себе. И весь район Стамбула между Аксараем и Фатихом назван был Хасеки, и
название это сохранилось на все века, навсегда.
продавали в рабство пленников Сулейманова похода, где советовалась с
великим Синаном о сооружениях, которыми хотела проявить милосердие к
простому люду, надеясь на милосердие к самой себе?
самочувствие, как Ваша доброжелательная голова и как Ваши благословенные
ноги? Не болят ли от дальней дороги, не слишком ли далеко отошли от своей
рабы? Мой властелин, глаза мои, обещайте, что возвратитесь в скором
времени.
что Ваш раб Рустем-паша - вернейший из рабов Ваших, не отстраняйте его от
своего честного взгляда, мое счастье, не слушайте больше ничьих советов,
мой падишах, ради Вашей святой головы, ради меня, Вашей рабыни, мой
счастливый падишах...>
из-под Сулеймановой опеки, заключила тайный договор с Фердинандом, в
соответствии с которым отрекалась от сана, получала для себя Себежское
княжество, а Яноша-Сигизмунда должна была женить на одной из Фердинандовых
дочерей. Пусть другие воюют, а ты, Австрия, счастливая, знай заключай
выгодные браки! Целый год свыше пятидесяти тысяч австрийцев пытались взять
Буду, но валы ее оставались неприступными. Сулейман со своим зятем еще раз
прошел по Венгрии, разбил австрийцев, расправился с венгерскими
старшинами, многих из которых забрали в Стамбул и бросили в темницы.
Наверное, не было камня в подземельях Стамбула, где не осталось бы
венгерской крови, венгерского стона и проклятий. Только слез там никто не
нашел бы, потому что венгры никогда не плакали.
хотя бы тех венгров, которые еще остались в живых.
все адские закоулки, вывел на свет божий уцелевших, пересчитал до единого,
пригрозил надзирателям, чтобы с пленных не упал и волосок, доложил
султанше. Роксолана попросила у Селима фирман, разрешающий освободить
венгров и обеспечить их возвращение домой. Шах-заде махнул рукой:
больше ловить, чем отпускать, но если такова воля великой султанши, то он
сделает!
она, - дражайшая дочь, обе мы родились от одной и той же матери - Евы...>
плотнее сжимался круг другой - безысходности, какой-то отрешенности,
заброшенности. Мир узнавал ее чем дальше, тем больше и больше, а для той
земли, из которой Роксолану вырвали почти тридцать лет назад, она
становилась все более и более безвестной, не было там живой души, которая
бы ее помнила, никто не устремлялся к ней мыслью, не откликался словом, и
не поможет никто и ничто - ни султан со своим смертоносным войском, ни ее
слезы и мольбы, ни молитвы, ни величайшие чудеса на свете.
ускользала неудержимо, как детство, как молодость, и уже едва мерцал дом
родительский за чужой зарей, и запамятовала, как седеет рожь за Чертовой
горой, как стучит в оконные стекла сухой снег, как пахнет прошлогодняя
листва и весенняя земля под нею, хотя до самой смерти будет помнить, что
так не пахнет земля нигде в мире. <Ой, заiржали конi воронi на станi. Ой,
забринiли кованi вози на дворi...>
сын Зигмунт-Август, рожденный, кажется, в том же году, что и ее покойный
Мемиш. Значит, годилась королю в матери. Еще знала о браке
Зигмунта-Августа. Первая его жена, австрийская принцесса, умерла, он
выбрал себе жену по любви, взял девушку не из королевского рода, литовку
Барбару Радзивилл; все магнаты восстали против короля, угрожали лишить его
трона, если не прогонит он эту искусительницу. Подсчитывали, сколько
любовников было у Барбары до брака. Каноник Краковский Владислав Гурский
называл королеву <последней курвой>. Воевода сандомирский Ян Тенчинский,
тот самый, которого Роксолана когда-то гоняла из Стамбула в Рогатин,
говорил, что охотнее видел бы в Кракове турка Сулеймана, чем в Польше
такую королеву. В Германии распространяли скабрезные рисунки о Барбаре, у
которой рамена и шея вместо излюбленных ею жемчугов украшены были мужскими
срамными телами.
чистоту, перед которой умолкали величайшие злословы.
добейся приема и вручи самому королю. И скажи ему то, о чем в письме



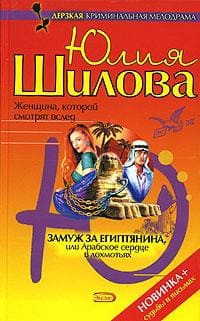

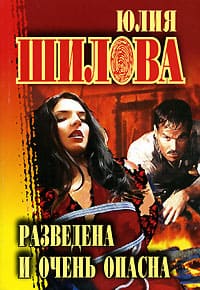
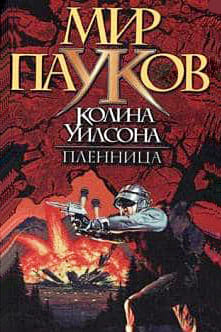 Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Василенко Иван
Василенко Иван Акунин Борис
Акунин Борис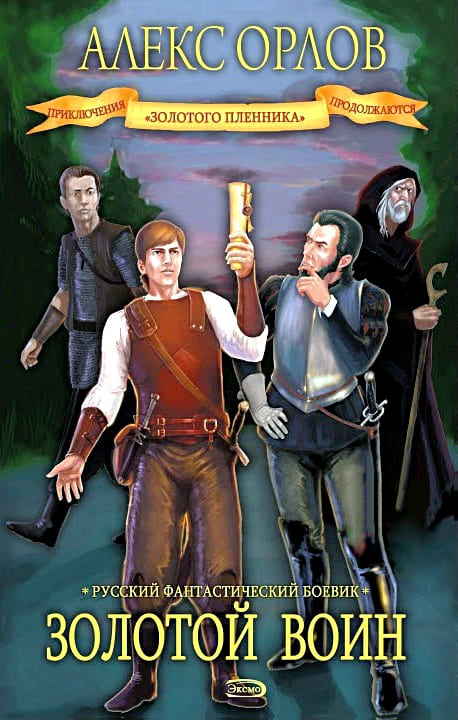 Орлов Алекс
Орлов Алекс