было раньше. Словно бы хотел дать своей любимой Хуррем как можно больше
времени для наслаждения независимостью и свободой. Наверное, и все те, кто
окружал султаншу, придерживались такого же мнения, одни изо всех сил
угождая ей, другие завидуя, третьи тяжело ненавидя ее или и презирая, ибо
где же это видано, чтобы женщине, да еще и чужестранке, давать такую
неограниченную власть, такую силу и свободу, от которых она неминуемо
обленится и избалуется, будучи даже святой...
скрытым от всего мира: если и вправду у Роксоланы была свобода, то только
для страданий, и чем большей свободой она могла пользоваться (и
радоваться? какое глумление!), тем большие страдания ожидали ее в каждом
дне прожитом и еще не прожитом.
любви, ни уважения, ни сочувствия. Ее никогда здесь никто не любил,
поначалу потому, что была всем чужой, потом из-за того, что все были
чужими ей, - вот так и должна была жить среди страданий и непокорности,
ненависти и недовольства, без любви и милосердия, всегда одинокая, всегда
наедине со своей судьбой. Одна на всем белом свете - этого невозможно даже
представить! Брошена среди диких зверей, как Даниил в ров со львами! Что
ее спасло? Судьба? Но даже судьба теряет свою слепую силу там, где гремят
пушки и льется кровь. Уже более тридцати лет Роксолана была свидетельницей
величайших преступлений на земле, их жертвой, а людям, окружающим ее,
казалось, что она причина этих преступлений. Темная молва ставила Хуррем
над самим султаном, царство Сулеймана называли <царством султанши>.
Османские хронисты писали о Хасеки: <Стала всемогущей, а султан всего лишь
обыкновенная кукла в ее руках>. И никто не знал, как хотелось Роксолане
отмыть руки от пролитой султаном крови, в каком отчаянии была она от этих
несмываемых следов.
великая джамия, открытая всем взглядам, беззащитная, беспомощная, -
созерцаемой со всех сторон, ей всем нужно нравиться, всех нужно
привлекать, покорять и побеждать. Может, потому любила ходить в Айя-Софию,
выбирая время между двумя дневными молитвами, когда гигантский храм стоял
пустой и таинственный, как века, как история, как вся жизнь.
виновной ни перед людьми, ни перед богом, а если уж и должна была
что-нибудь исцелять, так разве лишь свое тело. Потому что тело с течением
времени требовало все большего внимания и заботы. Внешне словно бы ничто и
не изменилось: была по-прежнему тоненькой, изящной, легкой, как и в ту
ночь, когда привели ее из дома Ибрагима в султанский гарем. Если бы
сохранился наряд, в котором тогда была, то свободно надела бы его на себя
и сегодня. Но это только внешне, для глаза постороннего, оставалась такой,
как и тридцать пять лет назад. Сама же чувствовала, как разрушается ее
тело где-то в глубинах, незаметно, медленно, но неуклонно, и никакая сила
не может предотвратить это ужасное разрушение. До тридцати лет не замечала
возраста, даже не задумывалась над этим. Родила шестерых детей, а сама в
душе по-прежнему оставалась ребенком. Сорокалетие встретила с испугом,
восприняла как переход в другую жизнь, полную скрытых угроз,
таинственно-непостижимых и потому стократ более опасных, чем угрозы явные,
ибо с теми хотя бы знаешь, как бороться. Пятидесятилетие налетело на нее,
будто орда: прогибается степь, дрожит небо, стонет простор, и нет
спасения, нет убежища. Пятидесятилетняя женщина напоминает увядшие осенние
листья: они еще сохраняют форму, пахнут пронзительнее, чем молодые, еще
живут и хотят жить, но уже никогда не вернется к ним весна, как река не
вернет своей воды, отданной морю; как дожди, пав на землю, не подымутся
больше в облака; как луна, навеки вознесенная в небо, не опустится на
землю.
Целыми часами она могла сидеть в своих мраморных купальнях, рассматривать
себя со всех сторон в венецианских зеркалах, натираться мазями,
бальзамами, пробовать ванны, которые когда-то применяли египетские царицы,
императрицы Рима, вавилонские богини, служители таинственных восточных
культов, китайские императоры. Спасалась от увядания, хваталась изо всех
сил за молодость, хотела удержать ее возле себя, не поддавалась годам, всю
власть свою бросала на то, чтобы отвоевать ее у жестокого времени, и,
обессиленная, исчерпанная напрасной борьбой, вынуждена была признать себя
побежденной и отступить. Как корабли, которые не приплывают, как цветы,
которые не расцветают, как губы, которые не целуют, как дети, которые
никогда не вырастут, - вот чем становилась теперь молодость для Роксоланы.
И не заплачешь, не пожалуешься никому - ни людям, ни богу.
не за милостью и милосердием, а для того, чтобы почувствовать величие и с
новой силой встать на спор с судьбой.
которая своей безбрежностью подавляла человека. Оранжевая глыба собора
мощно вздымалась до самого неба, заполняла весь простор. Девять
монументальных дверей, чудесно разделенных округлениями стен, вели внутрь
святыни. Нескончаемый выпуклый карниз соединял все входы в гармоничную,
спокойную целостность, и только огромные императорские двери, закрытые
кожаной пурпурной завесой, были словно вызов и угроза простому смертному.
Султаны, отдавая преимущество величию, можно сказать, таинственному, не
стали пользоваться большими дверями, через которые входили в Софию все
византийские императоры, начиная с Юстиниана, при котором возведен собор,
и от Феодосия, который соорудил широкие мраморные ступени перед главным
входом, вплоть до последнего из них, несчастного Константина Палеолога,
затоптанного разъяренными конями убийц Фатиха. В восточной стене Софии,
напротив ворот Великого дворца, Фатих велел пробить вход для султанов, а
внутри святыни поставлено для них возле стены михраба мраморное возвышение
на колоннах, где и совершали намазы сам Фатих и все те, кто унаследовал
его трон, - Баязид, Селим, Сулейман.
таилась, не скрывалась, шла открыто и свободно, легко ступая по высоким
мраморным ступенькам. Пусть таятся презренные евнухи, следящие за каждым
ее шагом, стараясь при этом не попадать султанше на глаза, забегали в
Софию раньше нее, прячась там за столбами и колоннами. Кого охраняют? Ее
от мира или мир от нее?
обыкновению махнув рукой свите, чтобы никто не смел идти за ней, тихо
пошла по каменным плитам. Успокаивающе журчала вода в большом круглом
бассейне с каменными лавками, на которые садились правоверные для омовений
перед молитвой. От боковой двери слуга, поднимая руки так, что они каждый
раз обнажались из широких рукавов темного халата, отгонял назойливых
голубей. Старый ходжа чистил веничком красный ковер, разостланный перед
главным входом. Голуби трепыхали крыльями у самого лица Роксоланы, овевали
ее торопливым ветром, смело падали к ногам, собирая невидимые крошки.
но даже легенды, взамен их выдумав собственные. Так возникла и легенда о
голубях возле мечетей. Дескать, султан Баязид купил у бедной вдовы пару
голубей и пустил их во дворе своей мечети, сооруженной прославленным
Хайреддином, который впервые применил для украшения капителей каменные
сталактиты и соты. С тех пор, мол, голуби расплодились возле всех мечетей
Стамбула. Считали, будто до султанов не существовало ни этих птиц, ни
этого трепыхания крыльев в каменном затишье нагретых солнцем дворов и над
журчащей водой, проведенной в город из окрестных гор по древним акведукам.
ходжа поскорее спрятал веничек за спину и низко кланялся, пока Роксолана
проходила мимо него. Эти люди не мешали ей. Сливались с молчаливой
гармоничностью святыни, голубями, с небом и солнцем. С благоговением и
почтительностью, не отваживаясь даже взглянуть вслед, сопровождали
султаншу покорными поклонами, и она на какой-то миг словно бы даже
поверила, что войдет в Софию одна, без никого, и укроется там хотя бы на
короткое время от всевидящих очей, затеряется в огромной мечети так, что
не найдет ее даже злая судьба. Переживала это ощущение каждый раз, хотя и
знала, что оно обманчиво, что оно разобьется вдребезги, как только минует
она согбенного в поклоне ходжу, приблизится к гигантскому порталу -
маленькая песчинка в хаосе мироздания перед этими каменными массами, о
которые уже тысячи лет бьются крики и шепоты, перед этим гигантским
каменным ухом бога, что слушает молитвы, просьбы, жалобы и проклятия и
ничего не слышит.
стенами Софии. Что они ей? Даже самые чистые ее намерения толковали
по-своему, каждый раз выискивая в них что-то затаенное, чуть ли не
преступное. Когда отдавала Синану свои драгоценности для застройки участка
Аврет-базара, весь Стамбул загудел, что сделала это нарочно, чтобы
помешать Сулейману восстановить Эски-сарай, Фатиха, сгоревший во время
последнего большого пожара. Дескать, Сулейман, усматривая в этом пожаре
руку бога, хотел восстановить первый дворец Завоевателя и переселить туда
весь гарем во главе с султаншей, спрятать ее за высоченными стенами
Фатиха, куда не заглядывает даже солнце, а самому спрятаться в Топкапы от
ее чар.
хотел в Топкапы построить для себя отдельные покои, куда был бы запрещен
вход даже для Хуррем, но она подговорила его взяться наконец за сооружение
его мечети Сулеймание, и теперь Синан вкладывает в это строительство все
государственные прибыли, а сам султан для пополнения государственной



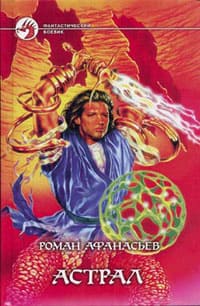


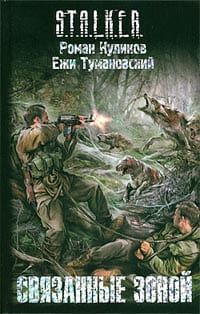 Куликов Роман
Куликов Роман Свержин Владимир
Свержин Владимир Пехов Алексей
Пехов Алексей Посняков Андрей
Посняков Андрей Земляной Андрей
Земляной Андрей Сертаков Виталий
Сертаков Виталий