умирать сердце, с каждой смертью умирала и частица ее самой, - она умирала
вместе со своими сыновьями; лучше бы отмирала по частям эта нечеловеческая
империя, в которой она стала султаншей.
Джихангира. Рос забытый нами, чуть ли не презренный, а когда умер, то
оказалось, что он был самым дорогим>.
допытывался, что бы мог для нее сделать. Шел дальше и дальше в землю шаха
Тахмаспа, оставлял после себя руины и смерть. В письмах об этом не писал.
Если и вспоминал взятые города и местности, то получалось каждый раз так,
что пришел туда лишь для того, чтобы поклониться памяти того или иного
великого поэта, которыми так славны земли кызылбашей. Называть это
кощунством никто не мог, даже Роксолана делала вид, что верит султану, тем
более что время и расстояние помогали ей скрывать истинные чувства.
войска шаха Тахмаспа, перешел через горы, направляясь в долину Куры, где
среди широкой равнины стоял тысячелетний город Гянджа. То, что осталось за
горными хребтами, Сулеймана не интересовало. Не слышал стонов, не видел
слез, дым пожаров не проникал в его роскошный шелковый шатер. Его старые
глаза не вчитывались в горькие строки армянских иштакаранов*, в которых
писалось: <Этим летом написана святая книга, в горькое и тяжелое время,
ибо в горечь и печаль повержен многострадальный армянский народ. Каждый
год новые и новые беды обрушиваются на армянский народ: голод, меч,
пленение, смерть, землетрясение>.
стены, на неприступные башни, на гигантские чинары, поднимавшиеся над
стенами, башнями и домами города, будто зеленые поднебесные шатры, и
весьма был удивлен, что этот город до сих пор цел, что не стал он добычей
ни шахского войска, ни его собственной силы.
войском в один день, вековые ореховые деревья вырублены для костров, на
которых готовился плов янычарам, речка Гянджа-чай была запружена, чтобы
оставить осажденный город без воды. Сулейман послал глашатаев к стенам
Гянджи с требованием впустить его в город без сопротивления, ибо он
пришел, чтобы поклониться памяти великого Низами, который прожил всю жизнь
в Гяндже и там был похоронен.
злодейском поклонении их гению, ибо кто же приходит к Низами с тысячными
ордами, которые вытаптывают все живое вокруг? Не пытались откупиться
шелками, которыми славились их ремесленники, как делали это когда-то при
монголах, ибо все равно не смогли спасти свой прекрасный город.
защищалась когда-то от Тимура. Воины вышли из города и стали перед его
стенами. Бились, пока за ними не упали стены. Тогда они перешли к своим
домам, спрятали в них женщин, детей, стариков и все подожгли. Сами же пали
мертвыми у родных порогов, никого не отдав в руки врага. Тогда над
уничтоженной Гянджей возвышался только мавзолей Низами да виднелась на
далеком горизонте выщербленная гора Алхарак, вершина которой когда-то
откололась во время землетрясения и, загородив ущелье, дала начало
жемчужине этих мест - озеру Г"йг"ль. С тех пор гянджинцы не перестают
повторять: <Даже мертвым нам принадлежит Низами безраздельно>.
Гянджа с ее мечетями, медресе, рынками, прославленными рядами
ремесленников, буйными чинарами, подобных которым, наверное, не было нигде
в мире, с ореховыми и гранатовыми садами, тихими улочками и журчанием
прозрачной воды. И город за три дня был сметен с лица земли, сожжен,
разрушен, растоптан султанскими слонами.
Низами, словно перст судьбы, который упрямо указывает на небо, но никогда
не отрывается от земли, из которой вырос.
шелковый шатер, земля устлана коврами, возле которых, не смея ступать
туда, собрались вельможи, имамы, улемы, поэты, мудрецы.
- И пусть отныне всегда будет так. Тут ничто не может существовать, кроме
величия Низами.
<Семи красавиц> Низами, и довольный Сулейман щедро одарил чтецов и пожелал
провести ночь возле мавзолея. И в ту ночь написал Хуррем обо всем, приведя
в письме строки из Низами о славянской княжне:
- восклицал султан.
спокойствие нарушила какая-то возня среди бостанджиев. Султан спросил, что
там случилось! Чауш доложил, что задержан какой-то оборванец, неизвестно
как проникший на осле сквозь все рубежи охраны и оказавшийся чуть ли не
возле шатра его величества.
оборванного, с наполовину выдернутой бородкой, но с глазами дерзкими и
непокорными.
смело смотрел завоевателю в глаза. Отвечать тоже не торопился, а когда
ответил, то коротко, одним словом:
никогда и знать не будет, потому что только в Гяндже умеют готовить
настоящий каймак и только здесь его по достоинству ценят. Целую ночь он
кипятит буйволиное молоко, снимает с него жирные пенки, расправляет,
кладет одну на другую, чтобы на рассвете в особой посуде привезти в город,
где у него есть постоянные покупатели, как они есть у каждого гянджинского
каймакчи, потому как гянджинцы вот уже тысячу лет каждое утро после
первого намаза едят свой неповторимый каймак и никакая сила не помешает им
это делать.
разрушенный город султан.
жеста, чтобы мгновенно обезглавить этого наглого человека. Но султан
неожиданно сказал:
каймакчи.
строками из Низами, ни султанское милосердие. Если бы он был таким же
милосердным к ее сыновьям и к ней самой! Он и его бог.
немилосердный? Дьявол? Но зачем он дал ей вознестись? Люди? Они мешали
всем силам, добрым и злым, и делали это неразумно и преступно. Ангелы? Их
она никогда не видела и не верила в то, что они существуют. Что же тогда
остается? Случай? Нет, она сама, ее воля, ее отчаяние. Каприз судьбы?
Султан всю жизнь шел через кладбища, она вынуждена идти через могилы своих
детей и могилы своего народа. Неизбежность, от которой она хотела
спастись, даже сменив веру, будто султанскую одежду или украшения, которые
она меняет по пять и по десять раз на день. А чего достигла? Никуда не
денешься, не убежишь от своих начал, своих истоков, ибо человек начинается
как река, но от воды отличается тем, что обладает памятью - этим
величайшим наслаждением, но и тягчайшей мукой одновременно.
среди величия и святости. Шла сюда упорно, несла свое одиночество, хотя и
знала, что София не прячет от просторов земли и неба, от ветра и облаков,
от журчания вод и людских голосов, от клокотания крови и тихих смертей, -
здесь все словно бы продолжается, сгущается, обретает еще большую силу, но
все это для тела, а не для души, ибо душа все же находит здесь хотя бы
краткую передышку и выражает недовольство, когда ее снова пытаются
отбросить в пережитое, не хочет безумного возврата в прошлое, где толпятся
призраки и подавленные страхи, бестелесные, изъеденные ржавчиной времени,
но все равно до сих пор еще жадные, с алчно разинутыми пастями в ожидании





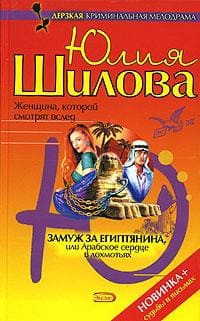
 Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав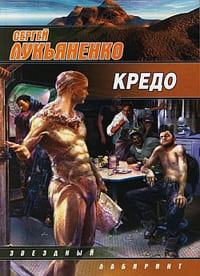 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Василенко Иван
Василенко Иван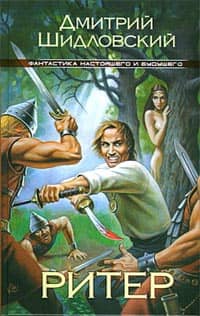 Шидловский Дмитрий
Шидловский Дмитрий Маркелов Олег
Маркелов Олег Посняков Андрей
Посняков Андрей