наступила на лягушку. В старых покоях валиде под коврами водились гадюки.
В разбитые окна влетали летучие мыши и совы, по запустелым помещениям
гарема слонялись голодные дикие звери, бежавшие из клеток.
передышки, к ночному зеленоватому небу возносила она свою память о своих
детях и проклятье к луне, к ее сиянию, ткавшему тонкую иллюзорную сеть,
которая навеки соединяет мертвых и живых, безнадежность небытия и
всемогущую вечность сущего.
и повсеместная, восторжествовала теперь, а посередине, будто клубок
золотого дыма, плавал отцовский дом - недостижимый, навеки утраченный не
только ею, но и всем человечеством, памятью, историей, веками. Вот где
ужас!
в добре. Открылось это теперь, когда ощутила смерть султана. В последний
раз в жизни была она прекрасной и единственной в той золотой беседке рядом
с неприступным падишахом, в последний раз для самой себя, а для него -
навсегда. Если вечна женская любовь, то ненависть тоже вечна. Теперь
ненавидела Сулеймана, как никогда прежде. Не могла простить ему, что
покинул ее в такую минуту. Лучше бы он сам доводил до конца смертельные
раздоры между своими сыновьями. Но бросить это на нее? За что такое
наказание? Стояла перед султанскими покоями, беспомощная и беззащитная.
Будто младенец безмолвный, будто стрелец незрячий. Когда муж между жизнью
и смертью, жене нечего там делать. Даже султанше, даже всемогущей. Куда ей
податься, где спрятаться, где искать спасения? Может, и правда, что для
женщины всегда найдется место и в раю, и в аду, и там, где живут ангелы, и
там, где скрываются злые духи? Где ее рай, где ее ад ныне? Ненависть
пожирала ее. Ненависть к человеку, который возвеличил, поднял, поставил
над всем миром. Поставил? Втоптав в грязь и кровь? Бросив в рабство, чтобы
потом поднять до небес? Но даже миг рабства не забудется ни на каких
высотах и никогда не простится.
Стамбулом, над всем миром, падают звезды, летучие мыши проносятся в темном
теплом небе, будто скорбно-печальные азаны муэдзинов с высоких минаретов.
Муэдзины, выкрикивая молитву, затыкают себе уши пальцами. Заткни и ты,
чтобы не слышать голосов мира и сурового голоса судьбы. В этих дворцах
правде и чуткости никогда не было места. Все попытки Сулеймана проявить
чуткость к ней были неуклюжими и неискренними. Ее веселье, песни и танцы
тоже были ненастоящими, напускными, обманчивыми. Разве может человек петь
всю жизнь, будто беззаботная птичка? Пристанище зверей, убежище палачей,
приют развратников, кровожадных упырей, молодых и старых ведьм - вот что
такое Топкапы. Султан, замотанный в свой огромный тюрбан, был спрятан от
людей и от самого себя, а она была словно его душа и всю жизнь пыталась
творить добро, а теперь устала от добродетельности.
идти на отдых, пытались утешить, но о султане молчали, о смерти говорить
боялись, других же вестей у них не было.
фонтанов, становилась под деревьями, всматривалась в летучую дымку голубой
ночной мглы, мерещился ей причудливый танец заблудших душ, которые жаждали
тихого приюта среди этого неопределенного, призрачного золотистого
мерцания, не ведая того, что здесь никто никогда ничего не мог найти, а
все только теряли, теряли навеки. Место вечных утрат, проклятье,
проклятье!
мне обращались необозримые степи: <Когда мы шли, одолевая орды, моровое
поветрие, зло, - тебя с нами не было!> Не верю. Стрела вылетает из лука.
Дорога - с порога. Человек - из пещеры. Я все помню. Пусть время заметает
следы ваших мук и плоды ваших рук. Я из вас вырастаю. Я все помню. Я все с
собой в дорогу возьму. Я все помню. Напряжение хребта, когда,
разогнувшись, высокой стала и в душу мне пролилась высота бездонного неба.
Я все помню. Прежде всего бессилие свое перед небом, прежде всего усилие
смотреть в себя. Я все помню. Совести рассвет. Рассвет любви в жестоких
глазах. Когда безжалостное время выдавливало мне мозг, как глину. Я все
помню. Степей первозданность. Орлов клекотанье. Удушливое страданье -
когда возвратился мой властелин, мой воин, султан на щите боевом. И вместе
с ним меня, молодую, живьем похоронили. Боги не заступились. Молчали
сыновья. Я все помню. Султанские гаремы. Гром неутихающих дум кобзаря. Рев
и стон днепровских порогов. Крюки между ребер. И чащи калины, так щедро
налитые казачьей кровью, что уже ни капельки нельзя долить. Я все помню, я
с вами была. А судьба не шелком прикасалась к телу. На всю жизнь - лишь
рабский халат, грубый и смердящий. Ибо так хотела я сама! Не надо мне ни
счастья, ни утешенья. Для них, для сыновей моих - все дни мои. Я все
помню. И то, как молчала, молчала, молчала молчаньем палачей донимала.
Земля моя родная, от тебя не отреклась хрупкая девчонка золотоволосая.
Лишь маме моей не говори, пожалей... Проходят годы, я живу, я раскована.
Да не зарастают в сердце моем кровоточащие раны искупления.
<Когда мы будем идти, преодолевая наши дороги в будущее, - тебя с нами не
будет...> Не верю. Стрела долетит до цели. Нельзя ей упасть. Нельзя
свернуть с пути. Я с вами буду идти, я верная и сильная. Я помогу вам в
дни печали и трудностей. Что знала я, дети, о ваших путях? Но сердце
говорит (а сердце правдивое), что судьба суждена вам, дети, удивительная.
И будет счастливым великий поход. Я с вами - сквозь тернии до звезд
золотых - буду идти вечно, потому что не смогу не идти. Дойдем - так
подсказывает мне сердце. А сердце все знает*.
врач Рамадан. Был слишком осторожным, чтобы сразу сказать страшную правду.
Роксолана пошла в помещение куббеалты*, позвала туда великого визиря и
Баязида. Кизляр-аге Ибрагиму, чтобы не торчал у входа по привычке, велела
приносить им вести о султане. Баязид рвался взглянуть на отца, но она не
отпускала его от себя. Казалось, отпустит и уже не увидит живым.
Может, новый.
пробормотал садразам.
существования в просторах вечного рая? - жестоко молвила Роксолана. - И
если султаном станет шах-заде Селим, а его великим визирем будет назван
презренный Мехмед Соколлу, этот убийца моего сына Мехмеда, виновник
множества раздоров, грабитель и отступник? Что случится с вами, почтенный
Ахмед-паша?
осторожный царедворец, - что я должен сделать? Вы советуете убрать этого
босняка?
только по нужде. Про сон забыли, еду им носили с султанских кухонь прямо в
зал заседаний дивана. Вести были неутешительные. Султан был словно бы и
живой, но в сознание не приходил, значит, существовал и не существовал.
Эта неопределенность не давала возможности прибегнуть к решительным
действиям, тем временем Роксолана должна была сломить нерешительность
Ахмед-паши. Не героизм, не благородство и не коварство, а только отчаяние
толкнуло ее на заговор против султана. Не могла смириться с мыслью, что
султаном станет Селим, а не ее любимый Баязид. Селим равнодушен, а все
равнодушные жестоки. Он исполнит кровавый закон Фатиха, убьет своего брата
и всех его маленьких сыновей, и у него не дрогнет сердце. А Баязид
послушает несчастную мать. Он не убивал бы своего брата, даже став
султаном. У него доброе сердце. Даже собаки чувствуют его доброту и всегда
бегут за ним целыми стаями, стоит лишь ему выехать на улицы Стамбула.
величества. Эта смерть может принести неисчислимые страдания для всех. Я
уже вижу кровь, которая течет между тюрбанами и бородами. И вашу,
садразам, кровь тоже. Разве она вас не пугает?
станет султаном, то что же тогда будет с шах-заде Селимом? Она насмешливо
поднимала брови на этого человека, терпеливо объясняла ему. Речь идет
прежде всего о нем самом. О том, чтобы он и дальше оставался великим



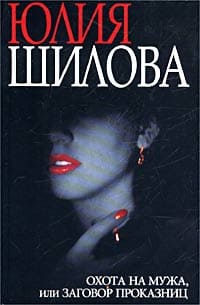


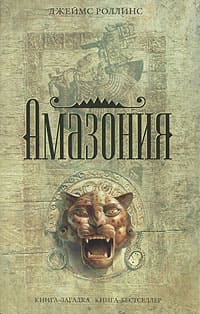 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Прозоров Александр
Прозоров Александр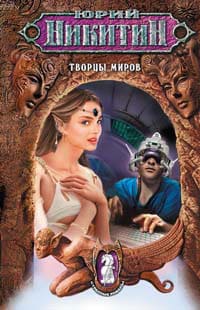 Никитин Юрий
Никитин Юрий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий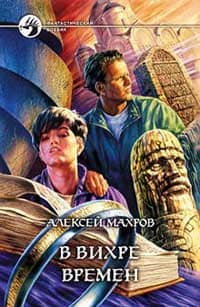 Махров Алексей
Махров Алексей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман