визирем. Это возможно только тогда, когда будет упразднен навсегда Соколлу
и когда Баязид станет султаном. Шах-заде Селима тем временем нужно будет
отправить под надежной охраной (чтобы ему никто не причинил зла) в летний
султанский дворец на Босфоре. Рустем-паша? Он дамат, этого достаточно.
Отныне она уже не султанша, а валиде. И не султан над нею, как было до сих
пор, а она над султаном, потому что он ее сын, а она его мать. Она
равнодушна к власти, но благополучие государства и всех земель и люда в
них превыше всего.
главный султанский врач Рамадан и сообщил:
обрушиваются на нее, хороня ее маленькое тело под своими обломками. -
Этого не может быть!
считать мертвым!
подозвала к себе Баязида, торопливо зашептала ему в лицо:
султану, будешь помилован. Не медли, пока еще можешь выйти за ворота
Топкапы и Стамбула. О, если бы у тебя тоже был двойник! Послать двойника к
двойнику, и пусть бьются. Но выхода нет, должен ехать сам.
моих.
Рамадана, якобы расспрашивал о состоянии здоровья падишаха, а сам
надеялся, что без мудрого араба все там произойдет само собой и султан
покинет этот мир окончательно. Однако и задерживать слишком долго врача не
решался, чтобы не догадались о его преступном намерении, в особенности
если учесть, что громадный кизляр-ага, проводив султаншу в ее покои,
посматривал на садразама без особого доброжелательства в босняцких
глазищах. Был точно таким же босняком, как и Мехмед Соколлу. От этих людей
не жди милосердия.
чтобы приветствовать, если представится такая возможность, его величество
падишаха с выздоровлением и немедленно разослать гонцов по столице с
благой вестью.
султанского врача.
и спросил о Хасеки. Она не пришла к нему, и он больше не звал ее, хотя
смерть и отступила от него окончательно. Был ли он еще слишком немощным
или уже почуял ее измену? Может, теперь думает над тем, как покарать ее?
Однако легко судить измену государственную, но как судить измену людскую?
И кто бы мог ему раскрыть ее неверность?
вести, добрые и злые, а при необходимости защитил бы ее от опасности, и
если б оказалось, что и он бессилен, то хотя бы своевременно предупредил
ее. Но теперь она должна была полагаться только на собственные силы и на
счастливую судьбу.
найти.
жалкий поваренок, которого двадцать лет назад поймали на Босфоре с
крадеными баранами и поставили ночью перед беспощадными глазами великого
визиря Ибрагима. Давно уже исчезла даже память о некогда всемогущем греке,
сколько погибло людей прекрасных, ценных, благородных, разрушались города,
порабощались целые земли, уничтожались государства большие и малые, а этот
жалкий людской огрызок не затерялся и не растерялся, не исчез, не стал
жертвой жестокости, царившей повсюду, а, как и прежде, жил в недрах
султанского дворца, пережил все, выжил, как червяк в яблоке, держался
крепко, как клещ и овечьей шерсти. Сказать, что Кучук выжил, - не сказать
ничего. Если бы воскрес Ибрагим, свидетель величайшей покорности и
униженности Кучука, он никогда бы не узнал того маленького замызганного
евнуха в нынешнем поваре великого визиря, холеном, обмотанном шелками,
вычищенном и надушенном, будто султанская одалиска. Теперь в запутанной
иерархии султанских кухонь над Кучуком стояли только мюшерифы - вельможные
надзиратели этих сладких адов и блюстители султанского здоровья. Все
остальное было ниже Кучука, подчинялось ему, прислуживало, послушно
выполняло его веления, капризы и пожелания. Будто настоящий паша, степенно
ходил Кучук между своими подчиненными, поучал, какими должны быть те, кто
готовит пищу для высочайших особ империи, - чистыми и опрятными, с
головами бритыми, руками вымытыми, ногтями остриженными, трезвыми, не
сварливыми, покорными, быстрыми, рачительными, хорошо знать вкус,
потребности всех тех, кто выше. Еда для человека то же самое, что и речь.
Словом можешь пробиться сквозь крепчайшие стены, куда не пробьется никакое
войско, точно так же через желудок можно добраться до сердца даже такого
человека, который и сам не знает, что у него есть сердце. Коржик с медом
может сделать ласковым даже янычара. Кучук благодарил случай, который
привел его на султанские кухни и там оставил, а еще благодарен он был той
случайной ночи, которая началась когда-то для него смертельным ужасом, но
обернулась неожиданной тайной властью над всем, что видел и слышал.
когда оглянулся он вокруг, а потом, после смерти великого визиря,
оглянулся еще раз, то понял, что в этом жестоком мире могут выжить,
уцелеть только люди неистовые. Повсюду идет ожесточенная, смертельная
борьба: между богом и дьяволом, между мужем и женой, между властителями и
подчиненными, между благородным и подлым, - и всюду побежденные,
поверженные, уничтоженные, растоптанные, а над ними те, кто умеет урвать
для себя, кто умеет кусаться, бить и идти по трупам, торжествовать победу.
тоже не хотел быть, тем более что ему казалось, будто он стоит у истоков
жизни, если считать, что жизнь в самом деле начинается у котлов, в которых
варится плов.
на помощь случай, подсказавший: держаться середины, быть ни тем, ни
другим, стать пристальным наблюдателем ожесточенной борьбы, что идет
вокруг, прислушиваться, выслеживать, улавливать самое сокровенное, упорно
собирать, как собирает пчела нектар, и нести своему повелителю. Великий
визирь Ибрагим сказал в памятную ночь: выслеживать султанскую любимицу
Хуррем и все о ней - в его собственные уши.
Если бы не тот несчастный случай, который поставил жалкого раба перед
всемогущим садразамом, Кучук так и прожил бы в своей рабской незаметности,
не причиняя никому ни добра, ни зла. Но речь шла о его собственной жизни.
Никого нельзя упрекать в нелюбви к виселице. У таких, как Кучук, в жизни
не было другой цели, кроме самосохранения. Потому они легко прощают тем,
кто обижает их, точно так же, как забывают о добродетели. Такие рабы не
бывают ни мстительными, ни благодарными. Они равнодушные, никакие. Если бы
Кучука спросили, любит ли он султана и султаншу, он поклялся бы аллахом,
что любит их больше, чем всех остальных людей и даже весь мир.
Одновременно собственный мизинец на ноге Кучук любил больше, чем всех
султанов бывших и будущих. Ненавидел ли он Роксолану? Смешной вопрос.
Почему бы он должен был ее ненавидеть? Тем более что была тогда почти
такой же рабыней, как и он сам. Ну, правда, стояла ближе к султану. Может,
помнила свое происхождение лучше, чем Кучук, который не знал о себе
ничего, кроме смутных воспоминаний о какой-то далекой земле, и об овцах и
горах, и о колокольчике в овечьей отаре <тронь-тронь>, даже за душу берет,
и море бьется о скалы, размывает берега, и сыплются камни, и пыль стоит
водяная и каменная. Вот и все. Еще помнил боль. Как сжалось когда-то
сердце от боли, так уже и не отпускало. Но при чем здесь Роксолана? Ее
вины в его несчастье не было никакой.
случайности. Незаметно собирал о Хуррем все, что мог собрать. Подкладывал
евнухам более жирные куски, вызывал на шутки, на сплетни, пересуды,
злобствования. Готов был бежать к тому сказочному колодцу, где сидят два
заточенных злых ангела Харут и Марут и обучают людей магии и колдовству.
Свалить на худенькие плечи султанской любимицы все чары, все странное, все
злое и непостижимое! Обвинить ее во всех грехах, и чем больше он принесет
Ибрагиму таких обвинений, тем свободнее, раскованнее и более властно будет
чувствовать себя. Вкус власти. Власть, даже таинственная, и та привлекает.
Если в мире господствуют неистовые, а он не может проявить свое
неистовство откровенно, - что ж, он изберет неистовство тихое, скрытое,
затаенное, и еще неизвестно, чье окажется более сильным.
Ибрагим был убит, ни памяти о нем, ни воспоминаний, а Кучук остался один,
без повелителя и покровителя, и не знал теперь, вести ли ему и дальше свою
подлую слежку за Роксоланой или потихоньку притаиться среди гигантских
медных котлов султанской кухни и жить так, как жил до той ночи, когда
привели его к садразаму. Вспоминал о своей прежней жизни и тяжко вздыхал.





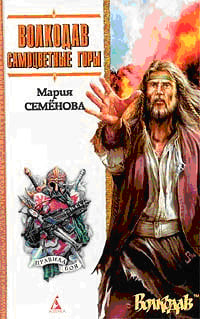
 Орлов Алекс
Орлов Алекс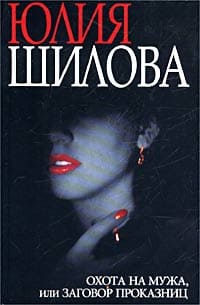 Шилова Юлия
Шилова Юлия Суворов Виктор
Суворов Виктор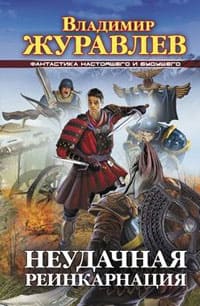 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир Корнев Павел
Корнев Павел Витковский Евгений
Витковский Евгений