Как все придворные, старался тогда удержаться среди живых и мертвых и был
счастлив. Но тогда еще не познал вкуса власти, теперь уже был отравлен ее
колдовским зельем и с ужасом чувствовал: навсегда, навеки. Правда, на
первых порах после смерти Ибрагима жил не столько ощущением тайной власти
над жизнью Хуррем, сколько страхом: а что, если великий визирь еще
кому-нибудь велел принимать доносы маленького султанского поваренка и тот
неизвестный в любой миг появится и крикнет: <Выкладывай-ка, что имеешь,
презренный подонок, сын свиньи и собаки!> Как сказано: <Поистине господь
твой быстр в наказании>.
падшую душу, Кучук продолжал выслеживать и вынюхивать, собирать по крохам
все, что мог собрать о Роксолане: что ела, как спала, что сказала, как
ходила, как одевалась, с кем говорила, кому улыбалась, о чем подумала и
что надумала. Окна в гареме были двойными, с такими широкими промежутками
между разноцветными стеклами, что там могли залегать евнухи, подглядывая и
подслушивая, оставаясь невидимыми и неведомыми. Всю добычу евнухи должны
были относить повелителю кизляр-аге, но кто же мог знать, все ли
принесено, все ли сказано, потому Кучук за жирный кусок всегда мог купить
себе утаенное от кизляр-аги, от самого султана и наслаждался своим
знанием, своей безнаказанностью и скрытой властью.
ожидая и не имея сил дождаться угрожающего посланца от мертвого Ибрагима,
Кучук постепенно начинал ненавидеть Хуррем. Первые свои доносы на нее он
делал равнодушно, не испытывая никаких чувств к султанше, даже не завидуя
ей, как другие, сам не веря ни в ее колдовство, ни в ее коварство. Но чем
дальше, тем больше проникался теперь тупой и тяжкой ненавистью к этой
неприступной женщине, считая, что все его несчастья начались по ее вине и
нынешнее его угрожающее состояние - это тоже ее вина. Холодная и
терпеливая ненависть переживает любую другую страсть. Кучук давно уже
понял, что никто не придет по его душу, потому что Ибрагим, судя по всему,
никому не сказал о своем доносчике с султанских кухонь; уже сменился после
грека и один великий визирь, и второй, и третий, и, как началось это еще
при Ибрагиме, Кучук готовил для них пищу и сам следил, как подается она
садразаму, уже смеялся над прежними своими страхами и часто, запершись в
своем закутке, выкладывал перед собой белый бараний череп, насмешливо
обращаясь к нему: <Ох, Ибрагим, Ибрагим, минуло твое мясо! Глаза твои
выскочили, уши твои отрезаны, осталась одна лишь кость!> Должен был еще
добавить: <Когда-то и с нами такое будет!>, но тут же прерывал свою речь.
Пусть умирает кто угодно, а он будет жить, он хочет жить! Продолжал
подслушивать, собирать сплетни, наветы, с годами добился такого
совершенства в своем проклятом ремесле слежки и накопления тайн, что
чувствовал себя чуть ли не всемогущим, зная обо всех все скрытое и
открытое, без конца повторял про себя 59-й стих из шестой суры Корана. <У
него - ключи тайного; знает их только он. Знает он, что на суше и на море;
лист падает только с его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего
или сухого, чего не было бы в книге ясной>.
Гасан-аги, которые собирали отовсюду вести, чтобы нести их султанше, не
ведая, что в огромном пространстве Топкапы живет маленький, незаметный
ахчи-уста, который тихо, но упорно собирает вести о султанше. Зачем? Для
кого, для какой надобности? Теперь уже не знал и сам. Наслаждался своей
тайной, потом почувствовал какое-то словно бы беспокойство, затем
наступила обескураженность, а с течением времени пришла настоящая болезнь.
Все, что попадает в человека, должно усваиваться, превращаться, оставлять
после себя поживу, а ненужное должно удаляться, иначе смерть.
собирает уже долгие годы, ни с кем не делясь, нагромождает в своей памяти
словно бы для самого себя, для собственной утехи, в безбрежной гордыне
своей сравнивая себя с самим аллахом: <Не постигают его взоры, а он
постигает взоры...> Много лет неразумно гордился он тем, что выслеживает
каждый шаг могущественнейшей женщины в империи, наслаждался от мысли о
своей исключительности, о своей неповторимости, о своем превосходстве.
Живился вестями редкостными, особенными, отбрасывая общедоступное, точно
так же как султан и вельможи позволяют себе есть мясо, жаренное на огне,
потому что оно обладает более изысканным вкусом, хотя и теряет половину
своей ценности. А вареное мясо, хотя и сохраняет в себе все свои
питательные качества, испокон веков считалось едой рабов и черного люда -
вот почему он отдавал предпочтение жареному, опаленному диким огнем тайных
знаний, и с жадностью пополнял их запасы, не зная ни меры, ни передышки.
нем, как камень, как свинец, отравляло, душило, разило нечистотами,
дымилось, клубилось адским дымом. Накопленные в нем доносы рвались наружу,
как вырывается из человека все лишнее и ненужное. И чувствовал он уже себя
будто неживым, несуществующим. С тоской посматривал на своих помощников по
кухне, завидовал их спокойствию и беззаботности. Внешне жизнь была для
него цепью томительных обязанностей, опостылевшего повседневного труда, а
на самом деле каким же все это казалось благородным в сравнении с тем, что
творилось в его падшей душе!
для жизни и мира в своей бессмысленной затаенности и бесцельной
преступности, если бы не случай с султаном Сулейманом во время пышной
встречи, подготовленной ему султаншей и их зятем Рустем-пашой.
султанша с сыном Баязидом и великим визирем Ахмед-пашой заперлись в
куббеалты и никого туда не пускали, хотя все догадывались: советуется с
сыном и садразамом, как захватить власть, кого устранить, кому снять
голову, на кого положиться, кому не верить.
заняты эти люди, вечно не будут сидеть они без еды, вынуждены будут
допустить к себе тех, кто должен их накормить, - так Кучук по праву
ахчи-уста великого визиря все же пробрался в куббеалты вместе с
подносчиками яств и напитков, распоряжался там, покрикивал на своих
помощников, выказывал почтительность к высоким лицам, перед которыми
оказался, и хотя не раз был с позором изгнан Баязидом, все же улавливал то
слово, то взгляд, то даже молчание и, добавляя из своих неиссякаемых
запасов тайных слежек, подозрений и подлостей, уже не сомневался:
<Заговор>. Собственно, он не слышал ни единого слова. И никто из евнухов
не мог прийти ему на помощь. Потянул носом в куббеалты - вот и все его
знания. Но разве дьявол не знает о боге во сто крат больше, чем все
святые? Кучуку уже слышались слова, даже невымолвленные, из простого
разговора Роксоланы и Ахмед-паши о садах Топкапы сами собой слагались
слова угрожающе-преступные: <Нужно свалить старое дерево и посадить
новое>. Заговор, заговор! Ничто не существует, пока оно не названо. Кучук
был уверен, что султанша плетет заговор против падишаха, сообщников не
надо и искать, они рядом с нею, теперь следует только назвать это,
раскрыть, донести его величеству - и раздвоенная жизнь Кучука найдет свое
оправдание так же, как виновные найдут наконец свое наказание. Ведь
сказано: <Вкусите же наказание...>
надлежало немедленно сообщить об этом. Но кому? Султану? Султан лежит то
ли жив, то ли мертв, ни единой живой души к нему не допускали. Тогда кому
же? Куда кинуться? К великому муфтию? У того только молитвы и проклятия, а
тут нужна сила. К шах-заде Селиму? Но пробьешься ли к нему и станет ли он
тебя слушать, в особенности когда речь идет о его родной матери?
кого попросить помощи, а время летит, каждая минута несет ему либо
поражение, либо победу, а он жаждал только победы. Иначе зачем же все его
чуть ли не двадцатилетние страдания!
Рустем-паше. Прислуживал ему целых десять лет, знал, как зол теперь дамат
на Ахмед-пашу, который забрал у него государственную печать, решил сказать
визирю не всю правду, а только половину - об Ахмед-паше, а уж там пусть
как знает. Если все закончится лишь тем, что дамат столкнет Ахмед-пашу и
снова станет садразамом, то и тогда он, Кучук, будет иметь свою выгоду, -
может, будет считаться довереннейшим человеком у султанского зятя.
Топкапы, надеясь, что будет допущен в куббеалты, поэтому когда столкнулся
во втором дворе с незадачливым своим ахчи-уста, мало и удивился.
знаешь сколько?
большим куском от тебя остануться уши.
Об угрозе жизни султана. Об...
поволок за собой.
коней, чтобы снять с них подковы. Всякая птица из-за языка гибнет.
и должны были быть, и похоронили его под своими обломками. Потому что в
этой жизни нет ничего вероятнее смерти.




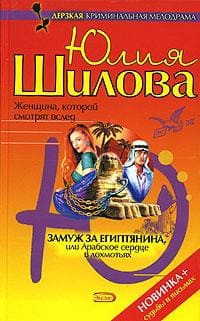

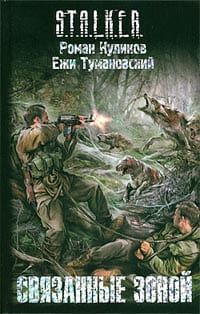 Куликов Роман
Куликов Роман Акунин Борис
Акунин Борис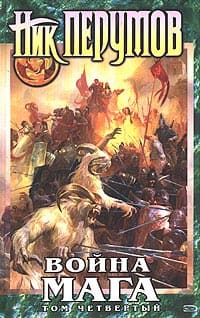 Перумов Ник
Перумов Ник Якубенко Николай
Якубенко Николай Шекли Роберт
Шекли Роберт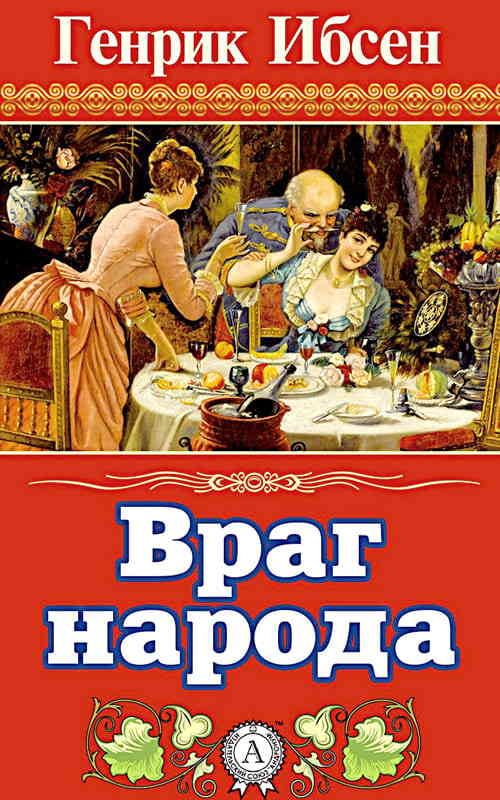 Ибсен Генрик
Ибсен Генрик