владетельными и просто без всякого значения. Пряталась между ними,
обложилась ими, будто тучей, стояла на шаткой, колеблющейся туче, а могла
бы стоять на туче, как вседержитель.
его ладони, и снова эта ладонь должна была обернуться для Роксоланы
ладонью судьбы.
на Золотой Рог, на Стамбул. Розово-синий город и пепельные громады мечетей
над ними - Баязид, Фатих, Селим, а между Баязидом и Фатихом холм
Сулеймание, крупнейшей из всех джамий, которая словно бы возвышается,
раскрыливается над Стамбулом, взлетает в небо, и этот гигантский город,
пепельно-синий, холмистый, будто спина дракона, тоже летит ниоткуда и
никуда, и она, усевшись на жесткой спине, бугрящейся куполами мечетей, с
вздымавшими ввысь шпилями минаретов, то розовых, будто детское личико, то
необыкновенно белых, будто призраки, тоже летит, но падает и падает в сады
гарема, туда, где кипарисы и платаны, туда, где железные и иудины деревья,
деревья для печали, для рыданий, для отчаяния.
спасение. Молилась ли она? Только отцовской молитвой: <Ущедри зовущую со
страхом. Ущедри...>
забыли. Даже кизляр-ага Ибрагим куда-то исчез, пропали все евнухи, не
охраняли, не следили, скрылись все враз, так, будто говорили: <Беги!
Вырывайся на свободу!> А где ее свобода, за какими стенами, просторами и
бесконечностью времени?
смежила даже век, невольно прислушивалась к каждому шороху, к журчанию
воды в фонтане, к вскрикам своего исстрадавшегося сердца, утомленно
посматривала на разметанные в черных настенных кругах золотые буквы
священных надписей, трепетавших, как птицы в окнах. И сердце у нее в груди
трепетало так же в ожидании неминуемого.
пропал кизляр-ага, и молчит, тяжко молчит Сулейман. Уже узнал, что хотела
его смерти? Но видит бог, не убивала его и не посылала убийц, потому что
лежал мертвый. А разве можно желать смерти для мертвого?
пес, изгнанный хозяином, втиснулся на белые ковры приемного покоя
султанши, понурый больше, чем всегда, лицо под черной бородой было
синюшное, будто у утопленника.
человека, к которому когда-то была благосклонной, потом возненавидела его,
в дальнейшем снова вынуждена была ему покровительствовать, чтобы снова
охладеть, может, и навсегда.
убить. Может, меня? Потому и прибежал на рассвете. Не мог дождаться утра.
Так знай же - не я отдала Михримах, а султан. Убийца хотел иметь своим
зятем тоже убийцу. Разве не ты убил Байду? А я если и имела еще после того
какие-то надежды на твое очищение, то только потому, что у тебя славянская
душа. Но теперь знай: человек может разговаривать на том же языке, что и
ты, а быть величайшим преступником. Язык не имеет значения. А душа? Разве
ее увидишь в человеке? Была слепой и теперь должна расплачиваться. Так
зачем пришел - хвастать или убивать?
только она свободна, потому что не поддавалась никому и ничему и не
поддалась. Не боялась ни угроз, ни предсказаний. Когда солнце будет
скручено, когда звезды облетят, и когда моря перельются, и когда зарытая
живьем будет спрошена, за какой грех она была убита, - может, лишь тогда
узнает душа ее, что приготовлено ей на этом свете. Но нет! Клянусь
движущимися обратно, текущими и скрывающимися, и ночью, когда она темнеет,
и зарей, когда она дышит, - буду бороться даже с безнадежностью, чтобы
самой смерти навязать высокий смысл жизни, как зерно, которое умирает,
чтобы жить снова и снова неистребимо, вечно.
зашевелился неуклюже, готов был бы съежиться от ее взгляда и ее слов.
Пришел человек, сказал, донес.
дойдешь даже в ад.
мне. Что я мог, ваше величество? Такое преступление. Измена. Я был
благодарен аллаху, что он избрал меня оружием. Если бы можно было знать!
Сердце как стеклянный дворец, лопнет - уже не склеишь.
его величеству султану. Ведь тот подлый доносчик сказал, что заговор
против падишаха затеял Ахмед-паша.
брать ей Ахмед-пашу. Не к каждому дереву прислонишься.
взял всю вину на себя, упал на колени, молил о наказании и прощении.
Мерзкие хитрости, как всегда у этого человека. Но когда спустили его в
подземелье Топкапы, пришел туда сам падишах, и начали дробить этому
хитрецу кости, Ахмед-паша выдал...
свете. Еще день-два тому назад ей казалось, что может стать всемогущей и
осуществить все, о чем думалось и не думалось, и ничто уже не стояло на
пути, но ниоткуда не было и помощи. Двое сыновей, которые остались в
живых, ей уже не принадлежали. Один должен был спасаться от гнева
падишаха, другой равнодушно ждал трона. Она звала своих мертвых сыновей, а
они отвечали ей молчанием. Еще вчера верила, что она единственно зрячее и
разумное существо среди окружающего ее озверения, не подвластного разуму,
заполоненного преступными инстинктами, но - о ужас! - теперь должна была
убедиться, что какая-то неведомая сила гонит ее к гибели, точно так же,
как и тех зверей, - зрелище жалкое и унизительное.
дворца, видела себя несчастной девушкой, которая пыталась пением и танцами
отгородиться от ужасов жизни, покорив молодого султана своей игрой и
привлекательностью. Потом стала отборной самкой, которая каждый год дарила
падишаху по сыну и стлалась на зеленых покрывалах его ложа, будто молодая
трава, которую топчут и топчут с безжалостным наслаждением. Наконец
мудрость, которая всегда была с нею, мудрость, посеянная еще в
родительском доме, восторжествовала и начала давать щедрые плоды, а плоды
мудрости бывают и сладкие, и горькие. Ей выпало испить до дна чашу горечи.
Что ж, она не испугается, не отступит. По ночам мы блуждаем по кругу и
сгораем в собственном пламени. Проклинать врагов? <Да исчезнут, как вода
протекающая... Да исчезнут, как распускающаяся улитка; да не видят солнца,
как выкидыш женщины>. А что проклятье? Ветер, который летит и не
возвращается. Она и сама теперь как дуновение ветра, как всплеск мысли во
тьме небытия, - не станет ее, а мысль будет жить, будет биться, взлетать
над всем сущим на невидимых крыльях ее страданий и любви ее сердца.






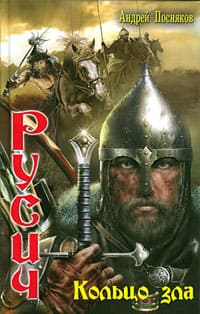 Посняков Андрей
Посняков Андрей Лукин Евгений
Лукин Евгений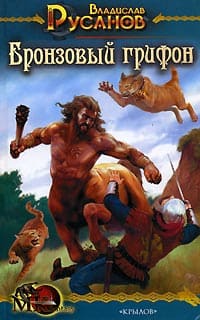 Русанов Владислав
Русанов Владислав Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Василенко Иван
Василенко Иван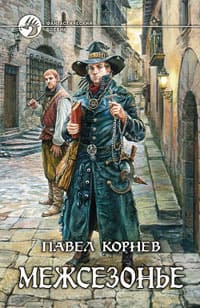 Корнев Павел
Корнев Павел