жестокого повеления, но Роксолана уже не увидела тела своего любимого
сына.
пути, и ничто не могло ее остановить.
глаза, мокрые усы, мокрый, слюнявый старческий рот.
зависящее от него. Баязид поставил себя вне жизни, точно так же поставил и
своих сыновей. Он султан, и в дни его августейшего правления выполнение
шариата является его высочайшим желанием. Поэтому он послал великого
евнуха Ибрагима в Бурсу, чтобы тот привез самого младшего Баязидова сына
Сулеймана. Кизляр-ага поехал и привез. Он поставил трехлетнего мальчика
перед султаном, и малыш указал пальчиком на него, удивляясь, но упал
мертвым, задушенный Ибрагимом, и теперь никогда он не сможет узнать, что
же с ним случилось. Вот почему Сулейман так безутешен и в неурочное время
пришел к Хуррем.
невинного дитяти. Почему все валится на ее хрупкие плечи, и сколько же ей
еще нести эту проклятую ношу? Стояла перед султаном, пожелтевшая, как
шафран, почти задыхаясь, смотрела на него такими глазами, что он
содрогнулся, испуганно воскликнул:
венок, и чувствовала, как подкатилось что-то под грудь, под сердце, и
давит, душит, не отпускает, и уже знала: не отпустит.
Вскоре наступит конец ее вечного одиночества и неприкаянности. Жизнь была
слишком коротка для ее души, даже в минуты высочайших взлетов она
чувствовала себя в окружении враждебных сил и разве поддалась им хотя бы
раз, разве отступила, испугалась? Сохранила себя среди стихий и
предательств, но самого дорогого - детей своих - защитить не смогла.
чужое небо, чужие деревья, чужие дожди. Положить начало роду своему можно
только на родной земле, оплодотворенной трудом предков твоих. Но не на
пустом месте.
Пустота. Немые, безмолвные миры валились на нее, и мрачные пороги
поднимались перед ее затуманившимся взором.
умирающей, он был готов, может, ценой собственной жизни дать жизнь
Роксолане, но смерть не принимала обмена.
предотвратить смерть!
тело, на грудь, плечи, колени, гладил волосы, взглядом ласкал лицо и
капризные губы, и каждое даже мысленное прикосновение к этому шелковистому
телу вызывало в нем забытую дрожь. И хотя давно уже не было полного
насыщения жизнью, а лишь призрачная оболочка ее, но, как и прежде, звучал
у него в ушах ее милый голос, и память упорно отыскивала молодую страсть.
Он вспоминал ее объятия, ее поцелуи, ее шепот, ее уста, запах волос,
прикосновения ладоней и тяжко плакал.
я за тобой! Я знаю об этом давно, верил и верю ныне...>
возродится, и чело посветлеет, и уста капризно улыбнутся, и нежные руки
ласково прикоснутся к его шершавым шекам, и ему снова будет легко,
радостно и прекрасно, словно на небе.
бессильной, что не могла даже сказать султану о своей ненависти к нему.
Радовалась, что наконец между ними наступили отношения, не подвластные
никакому насилию. Освобождалась из-под гнета. Наконец была свободна,
наконец! Никого не хотела ни видеть, ни слышать. Просился Рустем.
Наверное, боялся, что со смертью Хасеки снова будет отстранен от должности
садразама. Не пустила. Михримах хотела навестить мать - нет! Селим еще,
наверное, не знал о том, что мать умирает, а если бы и знал, то вряд ли
сдвинулся с места, из своей Манисы. Пусть сидит, ждет своего султанства!
Прогнала бы от себя и Сулеймана, если бы были силы, но берегла их остатки
для воспоминаний и последних мыслей.
свобода! <Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя... Бездна
бездну призывает голосом твоих водопадов...>
предалась прощальным воспоминаниям, и ей на миг показалось, что могла бы
убежать от смерти, обмануть ее, только бы уехать отсюда далеко-далеко,
чтобы не оставаться среди этих зверей. <Лелеко*-лелеко, понеси мене
далеко...> И знала, что не сможет пошевельнуться. Жила в Топкапы, как в
мраморной корсте**, тут должна была и умереть, тут умолкнут ее песни и
песни для нее.
отзвенели. Узнавала свои воспоминания, как навеки утраченных людей, и дом
родительский приходил к ней из-за вишневой зари, может, разметала его
буря, источил шашель, покрыли мхи, а в памяти продолжал светиться медом и
золотом - единственное место для ее бессмертия и вечности. И когда уже не
будет ее собственной памяти и ее воспоминаний, тогда появится чья-то
память о ней и воспоминания о ее воспоминаниях - и в этом тоже будет залог
и обещание вечности, ибо человек приходит на землю и под звезды, чтобы
навеки оставить свой след.
детства, и хотя не могла промолвить ни слова, вспоминала безмолвно: <Ибо
там захотели от нас слова песни и радости те, которые в невалю нас брали,
издевались над нами. Как же нам на чужой земле песни петь господние?>
стоне, в крике, в последнем отчаянии:
над ее могилой соорудил роскошную гробницу. Каменное восьмигранное
сооружение с заостренным куполом, которое опирается на колонну из белого
мрамора и порфира. За ореховой массивной балюстрадой посредине мавзолея
стоит одинокая каменная гробница, покрытая белой дорогой шалью. Стены
выложены художественными фаянсами. Чистые колеры - синий, красный гранат,
бирюзовый, зеленый, цветы и листья на гибких стеблях. Стебли черные, как
отчаяние, а вверху, под куполом, алебастровые розеты, белые, как
безграничность одиночества.
исламским камнем этой удивительной, тяжко одинокой и после смерти женщине,
которая не затерялась и не затеряется даже в век титанов.
главной героини. О чем этот роман? О времени, страхе и смерти? Вполне
возможно, однако не так общо, не так абстрактно, потому что автор не
философ и даже не историк, а только литератор. Правда, многие авторы
исторических романов часто похваляются своими открытиями, которые они
якобы сделали разгадкой документов, найденных уже после их описания в
романах, нахождением звеньев, которых недоставало для цельности той или
иной теории, проникновением в то, что лежало перед человечеством за семью
замками и печатями.
должны откровенно признать, что наука дает литературе неизмеримо больше,
чем литература может дать науке.
случайные записи, исследования, вещи, даже неосуществленные замыслы. А чем
может услужить историку сам писатель? Наблюдениями и исследованиями
непередаваемости человеческого сердца, человеческих чувств и страстей? Но
история далека от страстей, она лишена сердца, ей чужды чувства, она
должна <добру и злу внимать равнодушно>, ибо над нею царит безраздельно
суровая диктатура истины.
для всех других людей, то или иное настроение, но и это, как мне кажется,
не так уж и мало. Работая над историческим романом, ты выхватываешь из



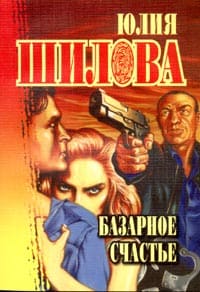


 Посняков Андрей
Посняков Андрей Маркеев Олег
Маркеев Олег Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Панов Вадим
Панов Вадим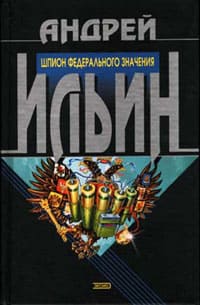 Ильин Андрей
Ильин Андрей