жить, жить неистово хотелось. Все люди, пожалуй, живут тем, что ждут:
что-то должно произойти, какое-то событие, какая-то перемена, перелом в
жизни, счастье, чудо. И ради этого можно вытерпеть все: голод, холод,
унижения, позор, бедность, несправедливость, тоску. А неволю?
буркалы на голую Настасю в потоках воды, слушал ее припевочки - удивлялся
или возмущался? Пусть!
где-то над лесами, звери выходят на водопой, на охоту, и она тоже зверь,
тоже хищник кровожадный! Уничтожено все вокруг нее, уничтожено все в ней,
а она - живая и невредимая! Это ли не чудо! И мир вокруг теплый, как эта
вода, большой, цветистый, как те дивные гаремные покои наверху, все в
золоте, в каменной резьбе и таинственной красоте. Не принимать ничего
близко к сердцу, не ждать милосердия, жить как эти людоловы, разбойники,
звери, хищники! Стерпеть все, пожертвовать всем, но только не телом! Нет
тела - нет тебя.
другой, и третий, она бы даже не смеялась. А теперь это случилось. Жила в
неволе лишь несколько месяцев, а впереди не видно конца. Должна была
привыкать к мысли, что иной жизни теперь ей никто не даст никогда и
поэтому надо все свое отчаянье, всю свою гордость проявлять уже здесь,
выказывать как можно более щедро, бороться, драться, толкаться, кусаться,
грызться, чтобы прожить свой век хоть и в неизбежном унижении, зато и не
без некоторых возмещений. Есть ли возмещение для свободы? Существует ли? И
может ли существовать? Ограничена жизнь человеческая, и человек также
ограничен. Только не многим суждено поломать и разрушить даже темницы,
возвыситься над всеми и всем, проявить величие духа и устремиться в
беспредельность свободы. Это великие люди. Но женщина неспособна на это.
Настася не слышала о таких женщинах. Святые великомученицы? Они были
жертвами, а она жертвой быть не хотела. Хоть и без надежды на
освобождение, но надо жить. А на что надеяться? На случай? На чудо? На
бога? На дьявола?
которая должна теперь соединить в себе, может, и зло с добром. Неосознанно
избрала своей защитой ясный смех, заприметив, что этим удивляет всех
вокруг и как бы склоняет к себе даже самые мрачные сердца. Можно дразнить
людей, бросать им злые слова, дышать ненавистью, а можно радовать,
веселить сердца, надеясь на добро, ибо кто бросает злость, получает тоже
злость, кто показывает слезы, в ответ увидит тоже слезы, а кто дарит смех,
неминуемо услышит в ответ тоже смех, может, и скрытый, подавленный,
загнанный в глубину души.
широкого халата, неуклюже уклоняясь от своевольных брызг воды, другой
алчно потянулся к шее девушки, точно хотел удушить ее, - Настася испуганно
отшатнулась, но черные сильные пальцы уже вцепились в золотую цепочку, на
которой висел золотой крестик, дернули раз и другой, рвали цепочку -
вот-вот она не выдержит и рассыплется мелкими колечками, не соберешь!
тряхнула длинными красноватыми волосами, словно даже обожгла ими евнуха,
тот попятился, забыв про крестик, заботясь лишь о том, чтобы не замочить
свои расшитые золотом сафьянцы.
бледное лицо, поняла, что есть люди, которые никогда не смеются.
вся в темном, как и ее губы, жесткая и немилосердная. Настася огляделась в
большом покое. Высокие окна с деревянными решетками - кафесами - внизу,
над ними еще один ряд окон, полукруглых, с разноцветными стеклами, на
которых змеи и червячки чужих букв, наверное, стихи из их Корана. Ужасная
роспись стен в холодных, как глаза валиде, красках. Множество низеньких
столиков, шкафчиков, подставочек, все угловатое, восьмигранное, украшенное
слоновой костью, перламутром, панцирем черепахи, серебром. Сделано было из
дерева, было когда-то деревом, живым, растущим. Как ему было больно, когда
калечили его тело, из округлостей вытесывали эти шероховатые
восьмиугольники, врезали в живую плоть мертвые куски кости, панциря и
холодного металла. Цвело, зеленело, шумело, а теперь мертвое, как эта
окаменелая в своей неприступности султанская мать. А может, и она
несчастная, как все здесь вокруг?
<Омываетесь и очищаетесь в купели, в ее светлых водах...> Не могла
вспомнить, как оно там дальше. Разве что из Книги Иова: <Зачем дан свет
человеку, коего путь закрыт и коего бог окружил тьмой>. Лучше не
вспоминать ничего и ни о чем. Забыть бы обо всем и радоваться жизни! Но
как ты забудешь, очутившись перед этой каменной молчаливой женщиной с
устами, точно из старого мертвого дерева...
повсюду господствовал язык знаков, язык презрения и угроз. Но что
поделаешь? Настася свернулась в клубочек на ковре. Ей было холодно после
купанья. Хотя бы спросила эта женщина, не замерзла ли она. Мерзнут ли они
сами когда-нибудь? Или так и снуют по тем длиннющим полутемным переходам
то босиком, то чуть ли не голыми? На столике халва, обсыпанная сахаром,
какие-то словно бы вяленые фрукты, длинношеий медный графин, низенькие
широкие чашки. Тошнило от одного взгляда на эти неживые лакомства. Утром
тоже не могла ничего съесть, только выпила воды. Настася устраивалась
поудобнее, улыбнулась не то болезненно, не то горько.
испокон века.
ее королевной. А она - себя. Разве запрещено? Единственное утешение -
побыть королевной хотя бы в мыслях. Что еще ей оставалось? К тому же тут
так холодно. Боже, как она замерзла! Чтобы не стучать зубами, разве что
смеяться. Единственное спасение. Султанская мать вся в теплых мехах, она
может сидеть тут сколько ей захочется, а Настасю тянет к печке. Прижаться
спиной к теплому, выгнуться, потянуться.
Смех нахальной девчонки оскорбил ее. Она сказала пренебрежительно:
души. Он идет от дикого своеволия, а не от бога. Аллах не смеется никогда.
Ты знаешь об этом?
Тут никогда не смеется их аллах, у нее дома бог тоже суровый, окружил себя
великомучениками, не смеется никогда. Отец поучал, что смех от ада, а не
от рая. А в раю - постное блаженство. Глаза под лоб, голова закинутая, рот
раскрыт - от восторга или чтобы вскочила в него благодать? А ей теперь все
безразлично. Благодати не дождется ниоткуда. Единственное, что осталось ей
человеческого, - это смех.
Хуррем!), потом велела:
Язык приходит сам по себе, незаметно, как дыхание. В Рогатине, когда шла к
пекарю-караиму Чобанику, должна была говорить с ним по-караимски, с
резниками Гесемом Шулимовичем и Мошком Бережанским хорошо было
перекинуться словом по-еврейски, с сапожниками братьями Лукасянами -
по-армянски, викарий Скарбский учил ее латыни и немецкому, а польский
знала и без того: полек-подруг было у нее больше, чем украинок-русинок.
Разве испугается она какого-либо языка? Выучит - никто и не опомнится. А
даст ли ей хоть какой-то язык утраченную волю, сможет ли вернуть ее?
гнуться и не ежиться на полу. Вскочила на ноги, закружилась на ковре,
напевая звонкую веснянку. А за окнами была мглистая зима, хотя деревья и
зеленели вечной и от этого словно бы мертвой зеленью, и валиде тоже сидела
под темной стеной, с темными губами, вся в темных мехах, как зима, -
женщина без весен, отныне и навеки!
глазами, кивком пальца, унизанного перстнями с крупными самоцветами.
тесные шелка, волосы золотыми волнами лились книзу, освещая живым блеском
мрачный покой. Султанская мать рассматривала Настасю долго, внимательно и
медленно.
них. Что ты умеешь?.. Ах, не все понимаешь? Умеешь хотя бы покачивать
бедрами? Догадываешься, что разглядываю тебя для самого падишаха? Каждая
юная красавица должна придавать блеск яркому свету его радостей. Ты не
красавица, но у тебя особенное тело. Твоя нежная плоть, как удлиненное
озеро наслаждения, должна согреть его усталость и наполнить душу горячей
струей радости.
охапками, так что если бы Настася и понимала по-турецки, то и тогда бы не
разобрала всего. Уловила несколько уже знакомых слов, стало ей смешно, не
утерпела, засмеялась над странным разговором немой с глухой.






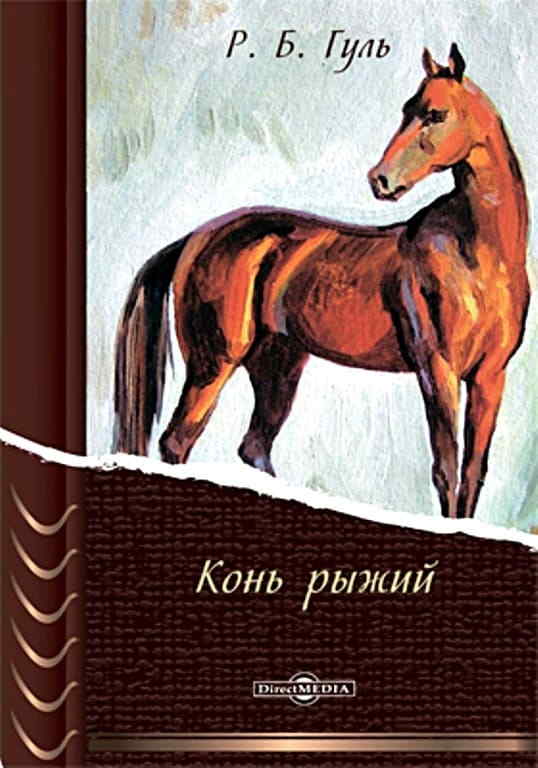 Гуль Роман Борисович
Гуль Роман Борисович Свержин Владимир
Свержин Владимир Якубенко Николай
Якубенко Николай Бажанов Олег
Бажанов Олег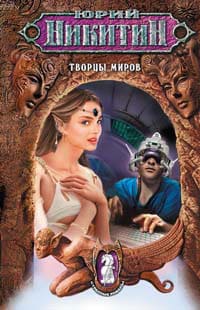 Никитин Юрий
Никитин Юрий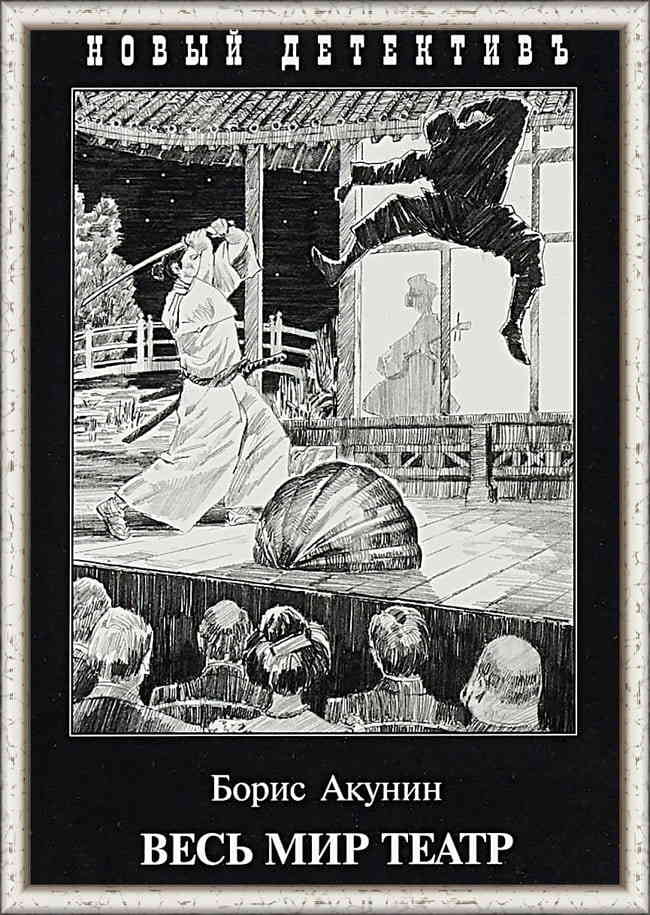 Акунин Борис
Акунин Борис