виолу. Приплывая на Паргу, торговец показывал маленькому Георгису, как
играть ту или иную мелодию. Не для усвоения, а чтобы посмеяться над
рыбацким сыном. Когда же он приплывал через месяц, мальчик уже играл
услышанное лишь однажды. Как будто на острове у него был учитель. Ибрагим
ходил на берег, дожидался отца, играл и играл. Для морских волн, для
безмолвных камней, для высокого неба. Часто засыпал с виолой в руках, спал
под палящим солнцем, на горячих камнях, но лицо его оставалось белым.
Жизнь легка и заманчива! Даже когда приходилось помогать отцу, думал так
же, поскольку помогал лишь относить губки тому странствующему торговцу. Не
было тогда видно ни отца, ни сына. Движутся две округлые кучи губок, а под
ними мелькают две пары ног. Коричневые, жилистые, потрескавшиеся, все в
ссадинах и шрамах - отца. И стройные, тонкие, как у козлика, - сына. Грек
большой и грек маленький. Большой так и остался греком. Где-то ловит рыбу,
достает губки с морского дна, высушивает, продает заезжим торговцам я
пропивает все заработанное. Пьет неразбавленное кислое вино, как дикий
фракиец. А маленький вырос и уже давно не грек, а Ибрагим-эфенди. Он
красив, умен, богат и почти так же всемогущ, как и султан Сулейман.
Говорить об этом излишне. В Стамбуле болтают лишь глупцы. Настоящие люди
умеют молчать. Делают свое без шума. Человека вообще не слышат и не знают.
Особенно же в таком городе, где говорит только история. Единственный
способ, чтобы тебя заметили, - бить в глаза: уметь жить, наряжаться,
показывать, кто ты есть. Ибрагим не был ни пашой, ни санджакбегом, ни
бейлербегом*, ни визирем, но могущество его не имело границ. <Душа
султана, его сердце и дух> - так прозвали Ибрагима. С Сулейманом прожил
десять лет в Манисе, где султан Селим держал своего единственного сына,
наследника трона, лишь изредка позволяя ему побыть своим наместником в
Стамбуле, когда сам отправлялся в далекие и трудные походы, как это было
шесть лет назад, во время покорения Египта. Султан Селим не любил сына, не
любил он и свою жену Хафсу, дочь крымского хана, держал обоих в отдалении,
равнодушен был к обычным утехам, в гарем заглядывал изредка, да и то лишь
затем, чтобы войско не сомневалось в его мужских достоинствах, любил
только войну, охоту, верных своих янычар. Про Ибрагима Селим знал, как
знал обо всем в своей беспредельной империи. Возненавидел вертлявого
грека. Возненавидел и сына за то, что тот сделал своим любимцем не воина,
а какого-то вертопраха. Особенно не любил пышность в одежде, к которой
Ибрагим приохотил шах-заде Сулеймана. И поэтому показалось странным, когда
султан прислал Сулейману из Эдирне, куда отправился на большую охоту в
начале рамадана**, дорогую сорочку из тонкого шелка. Валиде Хафса не дала
сыну надеть ее. Позвала одного из балтаджиев, который когда-то повел себя
с нею неучтиво, сказала, что прощает его и в знак прощения дарит ему
дорогую сорочку. Такая сорочка приличествовала бы и самому султану.
Балтаджи надел ее и в тот же день скончался в страшных мучениях. Селим
прислал своему сыну отравленную сорочку! Зачем? Думал жить вечно, устраняя
единственного наследника? Или не заботился о достойном продолжении рода
Османов, могучей лозы Османова древа? Шах-заде не спал тогда всю ночь, все
допытывался у Ибрагима. Ибрагим перебирал случаи из истории. Там можно
было найти еще и не такое. Но кто же может успокоить себя прошлым?
Стамбула в Эдирне, в тех самых местах, откуда восемь лет назад выступил
против родного отца, султана Баязида Справедливого. Может, носил эту
неизлечимую болезнь в себе уже давно и, не имея ни времени, ни надежд на
получение престола, расчистил себе путь к власти убийствами своих братьев,
их детей, укорочением века самому султану Баязиду. Носил в себе дикую
боль, тщетно пытался унять ее опиумом, может, собственной болью мог бы
оправдать и свою нечеловеческую жестокость? Жестокость к врагам уже не
удивляла никого - все Османы были жестоки. Но к родному и единственному
сыну?
Шибеника, грабитель и убийца, любимец Селима и... Сулеймана. Одного
очаровал своей зверолютостью, другого быстрым умом, песнями, беседами. За
него выдали Сулейманову сестру Сельджук-султанию, принцессу, гордую своей
красотой, но и она, так же, как и валиде, была в восхищении от бывшего
раба.
верность, преданность и личные достоинства. Кто умел крикнуть громче всех
во время штурма вражеской крепости, ударить сильнее всех саблей,
растоптать наибольшее количество врагов, растолкать локтями всех вокруг,
лезть напролом без стыда и совести, лишь бы только во славу аллаха и на
пользу и услужение султану. Каждый нищий мог стать великим визирем,
вчерашний раб - царским зятем. Ведь сказано: <Разве же у них лестница до
неба?>
Манису весть о смерти султана, прежде чем об этом узнают в Стамбуле. Он
торопил Сулеймана: <Быстрее, быстрее!> В столицу, в султанский дворец,
пока не проведали янычары, пока стамбульская чернь не выплеснулась на
улицы... Сулейман не верил. Султан мог подговорить Ферхад-пашу. Заманить
Сулеймана в западню и расправиться.
моих! Разве бы осмелился раб твой...> Сулейман кривил тонкие губы в
усмешке. Слишком много черных теней затемняло сияние самого Ферхад-паши. В
царской семье хотел властвовать безраздельно, соперников не терпел. Если
перед шах-заде заискивал, то Ибрагима ненавидел открыто. Называл его
ржавчиной на сверкающем мече Османов.
Мехмед-паши из Стамбула. Мудрый Пири Мехмед прислал Сулейману шелковый
свиток: <Моему достославному повелителю. Дня двадцать седьмого рамадана
почил в аллахе всесветлый султан Селим. Смерть его скрыта от войска.
Остаюсь для повелений моего достославного властителя>.
Ибрагима для себя, пашу для янычар. Коней меняли через каждые три часа.
Ферхад-паша издевался над Ибрагимом: <Рассыплешься!> - <До твоих похорон
доживу!> - <Подумай, кому это говоришь?> - <Я уже подумал>. Сулейман не
разнимал двух фаворитов. Один - его собственный, другой - всей султанской
семьи. Может, ждал, кто кого? Но Ибрагим ждать не мог.
покойному султану, и первым, что он повелел, было: воздвигнуть на том
месте джамию*, тюрбе** и медресе в память великого покойника. Только после
этого вступил во дворец Топкапы.
Грозный, с ним и они были грозны как никогда прежде. В знак скорби
посрывали с голов свои островерхие шапки, свернули походные шатры, бросили
их на землю, отказались служить новому султану. Ибо тот признавал только
свои книги, выискивая в них мудрость. А мудрость - на конце ятагана. Пусть
себе утешается книгами!
Ферхад-пашу? Или на старого Пири Мехмеда? Потом велел открыть сокровищницу
и стал щедро раздавать золото и серебро. Янычары притихли. Отпустил домой
шесть сотен египтян, взятых в рабство Селимом. Персидским купцам, у
которых Селим перед походом против шаха Исмаила забрал имущество и товары,
возвратил все и выплатил миллион аспр* возмещения. В науку другим и для
острастки повесил командующего флотом капудан-пашу Джафер-бега,
прозванного Кровопийцей. Никто не знал, что это первая месть Ибрагима. Да
и сам капудан-паша не успел догадаться об истинной причине своей смерти.
Забыл, как пятнадцать лет назад был привезен на его баштарду худощавый
греческий джавуренок со скрипочкой и как, насмехаясь, почесывая лохматую
жирную грудь, прячась в тени шелкового шатра на демене, поставил он под
солнцем на шаткой палубе мальчонку и велел играть. И тот играл. Может,
думал, что и схватили его на берегу только затем, чтобы потешил игрой
капудан-пашу? И, пожалуй, надеялся, что его отпустят к папе и маме?
<Хорошо играешь, малыш, - сказал Джафер-бег, - и как жаль тебя продавать!
Но что я бедный раб всемогущественного и милосердного аллаха, могу
поделать?> И он даже заплакал от растроганности и безысходности. Сказано
же: кого волк схватит, того уже в лес не пустит.
вдове Феррох-хатун из Маниссы. Добрая женщина не только уплатила бешеные
деньги за ничтожного греческого мальчугана, она не жалела денег на самых
дорогих учителей; и за пять лет Ибрагим (ибо теперь его так звали) словно
заново родился на свет. Не узнал бы его уже никто с маленького острова
Парги.
услышал однажды на улице, как Ибрагим играл на виоле. Небесная игра!
Феррох-хатун плакала горькими слезами, расставаясь со своим воспитанником.
Воля шах-заде для нее была превыше любви к Ибрагиму. Шестнадцатилетний
шах-заде купил себе семнадцатилетнего раба редкостных способностей, знаний
и достоинств. Не мог жить без Ибрагима. Назвал его силяхтаром -
оруженосцем. Ибрагим платил Сулейману преданностью, любовью и
благоговением. Не довольствовался словами, взглядами, готовностью служить


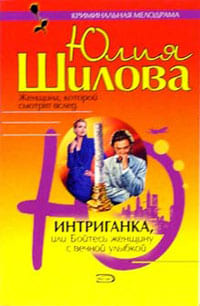



 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс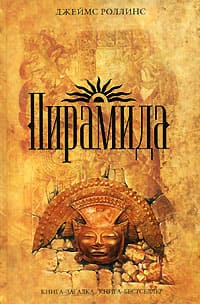 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс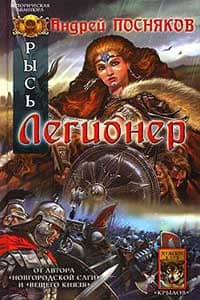 Посняков Андрей
Посняков Андрей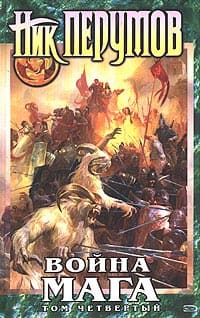 Перумов Ник
Перумов Ник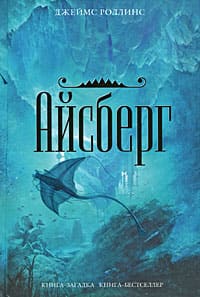 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс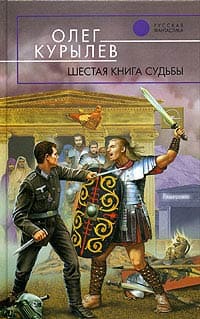 Курылев Олег
Курылев Олег