появился черный кизляр-ага, знакомый Настасе с ночи. Звериная ловкость и
вкрадчивость были в его мощном теле, а в лице под белыми складками тюрбана
что-то молящее, словно бы даже собачье. Лишь впоследствии Настася
постигла, что это глаза. Не узнавала их, пока они предупредительно ловили
каждое движение валиде, когда же остановились на ней, уставились на нее,
прилипли, приклеились жестоко и неотступно, узнала вмиг и чуть не
вскрикнула от неожиданности. Глаза Стамбула, настороженные, недоверчивые,
подозрительные, острые. Глаза выслеживания, преследования, глаза неволи.
От них не спрячешься, не освободишься, не убежишь, не спасешься, наверное,
и в смерти.
прогнать из него дикий дух степей, - сказала валиде (а Настасе хотелось
закричать: <Лещины дух! Зеленых листьев и трав!>) - Чтобы оно было как
сад, в котором щебечут птицы блаженства, из которого нет сил выйти. Нужно
также позаботиться, - спокойно наставляла кизляр-агу валиде, - чтобы
Хуррем предстала перед падишахом в искусном пении и танце, не допуская
варварской нечестивости.
каждого слова, послушно смотрел на валиде и в то же время каким-то
непостижимым образом успевал бдительно следить и за Настасей, словно он
был о четырех глазах. Так она и прозвала его в мыслях Четырехглазым, и
таким он для нее остался навсегда. Отомстить им их же оружием. Назвали
Хуррем, как только ступила она за кованные железом двери, и она будет
называть их, как ей вздумается.
девушке на ломаном славянском:
турецкого, персидского, арабского знал еще и сербский и при его дворе
славянский язык звучал не реже, чем турецкий или арабский. Что побуждало
султана к этому? Государственные нужды или его темное происхождение? Голос
крови? Кто его знает! Настасе еще не было никакого дела ни до
государственных нужд, ни до чьего бы то ни было происхождения. Забывала
уже и свое собственное. По крайней мере все вокруг старались, чтобы она
забыла.
благовониями так, словно должен был проглотить ее какой-то людоед,
выщипывали брови, отбеливали и без того белое лицо, примеряли множество
убранств - широких, легких, прозрачных, до того, что и сама она стала
прозрачной, словно бы светилась, и когда в садах гарема гулял буйный
ветер, то поеживалась, потому что казалось ей, что тот ветер может теперь
свободно пролететь сквозь нее. Цепляли на нее украшения. Пока недорогие,
из тяжелого чеканного серебра. Серьги, браслеты на руки и на ноги. И снова
перемеряли целые кипы тканей, завертывали ее в них, не жалели, были
безумно щедры, - роскошь и богатство султанского гарема не имели границ!
казались ей старыми) в синих шароварах, в белых шерстяных чулках, в трех
халатах, надетых один поверх другого, в большущем синем тюрбане. Евнух
вытащил на середину комнаты огромный стоячий барабан, взял длинную
колотушку, опустился возле барабана на колено и стал что было силы
колотить в натянутую бычью шкуру, показывая Настасе, чтобы она кружилась
вокруг него, приспосабливаясь к ударам колотушки. А дудки! Если хочет,
пусть приспосабливается сам! И Настася пустилась в такой неистовый танец,
запела так громко и звонко, что евнух поначалу оторопел от столь
неслыханной дерзости, но потом в нем проснулась профессиональная гордость,
он попытался колотить в такт Настасяному кружению и пению, не успевал,
сбивался, бранился, пробовал остановить своевольную девушку и тем распалял
ее еще больше. Евнух вспотел, из-под тюрбана широкими струйками стекал на
его черную физиономию пот, он глотал его, и, уже потеряв малейшую надежду
успеть за этой козой, бухал в барабан как попало, сплевывал бессильно и
грозил Настасе огромной своей колотушкой. Настася заливалась смехом. <Вот
вам и Хуррем! Ну, я уж вам покажу! Всем покажу!>
забыла о вездесущих глазах гарема. А глаза не пропускали ничего, все
замечали, все видели, увидели и то, что происходило между Настасей и
барабанщиком, сообщили кизляр-аге, тот сообщил валиде, Хафса по обычаю
долго думала, потом сказала:
праздники. И всегда стоял перед нею кизляр-ага, прижимал руки к груди и
кланялся. Так же кланялся и перед султаном, но тот не звал главного
евнуха, не спешил в гарем, если и хотел кого видеть, то только свою
возлюбленную Махидевран, которая после этого проявляла власть еще более
неумеренную, превосходя самое валиде.
счастливыми и несчастными, когда султан пожелал побывать в Баб-ус-сааде.
Настася очутилась в зале приемов впервые. Два ряда окон, галереи с резными
решетками, оранжевые фаянсы в цветах и травах, кружева резного камня и
дерева, ковры, столики с лакомствами, курильницы, посредине возвышение для
танцев, рядом высокий трон для султана, низенькие стульчики для валиде,
султанских сестер и Махидевран. Евнухи сбили в кучу одалисок, певиц,
танцовщиц; приглушенные голоса, подавляемые вздохи, неслышные шаги ног,
обутых в мягкие сафьяновые туфельки; пришла Махидевран, проплыла к своему
месту; валиде привела султанских сестер Хафизу и Хатиджу, ожидание было
тягостным, напряженным, невыносимым. Хотя на дворе стояла теплынь, в зале
были натоплены высокие печи. Было душно. Ароматы из курильниц, мази с
запахом цветов и заморских пряностей - все смешалось. Настася даже
вздохнуть боялась - куда она попала! Тонкостанные, пышнобедрые роскошные
одалиски с размалеванными лицами, в шелках, в белых, желтых и черных
жемчугах, с зелеными, голубыми, красными самоцветами (за ночь любви), в
золоте, парче, в кисее, в тонких шалях, все прозрачно, ничто не спрятано и
не укрыто. Все ждало султана, только его одного, все готовилось для него,
состязалось за него. Какой ужас, какой позор и какое унижение!
не сверхъестественно. Настася никак не могла привыкнуть к тому, что люди в
гареме появляются всегда неожиданно, ниоткуда, словно бы из ничего. Для
этого устроено было здесь множество потайных дверей, укрытий, тяжеленных
занавесей из плотных тканей, поднятых под самые потолки галерей и
переходов, отовсюду поблескивали чьи-то глаза, улавливалось чужое дыхание,
шевелились стены, призраки жили в каждой щели, готовые мгновенно стать
плотью, враждебной и ненавистной. Можно ли когда-нибудь привыкнуть к
такому, не сойдя с ума?
мгновение ока очутился около своих евнухов, которые стерегли одалисок,
расставляли их так и этак, резким шепотом передавали повеления валиде,
кому, когда, что и как делать и как себя вести. А султан между тем
усаживался на свой гаремный трон - высокий, весь в блеске золота, сам тоже
весь в золоте, в широченных, до самой земли, тяжелых от золотого шитья
халатах, в невероятно высоком тюрбане, на котором кроваво поблескивали две
нитки рубинов, а еще один рубин, может самый большой на свете, пылал на
безымянном пальце султана, точно кровавый глаз, уставившийся в пеструю
девичью толпу, понуро выискивая там несчастные жертвы.
кизляр-аге, тот толкнул ближайшего евнуха, все задвигалось, заволновалось,
на возвышение выпорхнуло несколько скупо одетых девчушек, где-то зачастили
барабаны, гнусаво запела зурна, начался танец.
оттягивал ему голову, был, наверное, тяжелый, как камень, нависал над
миром, будто все османство с его жестокостью, ненасытной алчностью. Он не
шевельнулся и тогда, когда безмолвных танцовщиц сменили поющие и когда
евнухи для разнообразия стали выпускать одалисок меньшими стайками, по
две, по три. Он не скрывал величия, как немыслимая гора среди
беспредельной равнины, как нечаянное откровение. Был ничей, холодный и
одинокий, как руки, поднятые к звездам, как дождь, что оторвался от тучи и
не упал на землю, как слабый листок, занесенный из печальных осенних садов
в разбушевавшееся море. Настасе стало жутко от созерцания этого
всемогущего человека. Зачем-то подкладывал под себя правую руку, точно
маленький мальчик. Грел ее, что ли? А может, прятал, чтобы не выдать себя
преждевременно нетерпеливым жестом, взмахом, которого не хотел,
повелением, к которому не был подготовлен? Настасе даже жаль стало этого
человека. Чем-то напомнил ей викария Скарбского. Такой же одинокий здесь,
в своих недоступных другим знаниях, такой же высокий, задумчивый, суровый.
Только тот всегда бритый, а этот с усами, длинными, мрачными и
немилосердными.
чистой любви, какой никогда не было в султанских дворцах, только дикое
неистовство самцов и поругание. Настася и не прислушивалась к ним, была
равнодушна и к тому, что евнухи так же вытолкают со временем на середину и
ее и будет она кружиться вокруг огромного барабана, в который бьет,
обливаясь потом, тот старый олух в белых шерстяных чулках.
красоте в гареме, соперница самой Махидевран, та самая Гульфем, каждый
жест которой сопровождался горячим завистливым перешептыванием, высокая,
яркая, вся огонь и красота - лицом, бровями, глазами, жадным ртом,
жемчужными зубами, чувственным носом, волосами как ароматная ночь, телом
еще более жадным, чем ее алые губы, она еще и не пела, и не закружилась в
танце, только занесла над головой, удлинив до бесконечности гибкие белые






 Суворов Виктор
Суворов Виктор Скальци Джон
Скальци Джон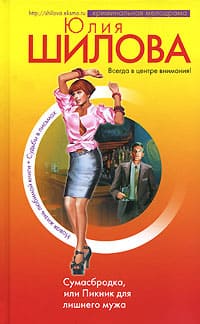 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия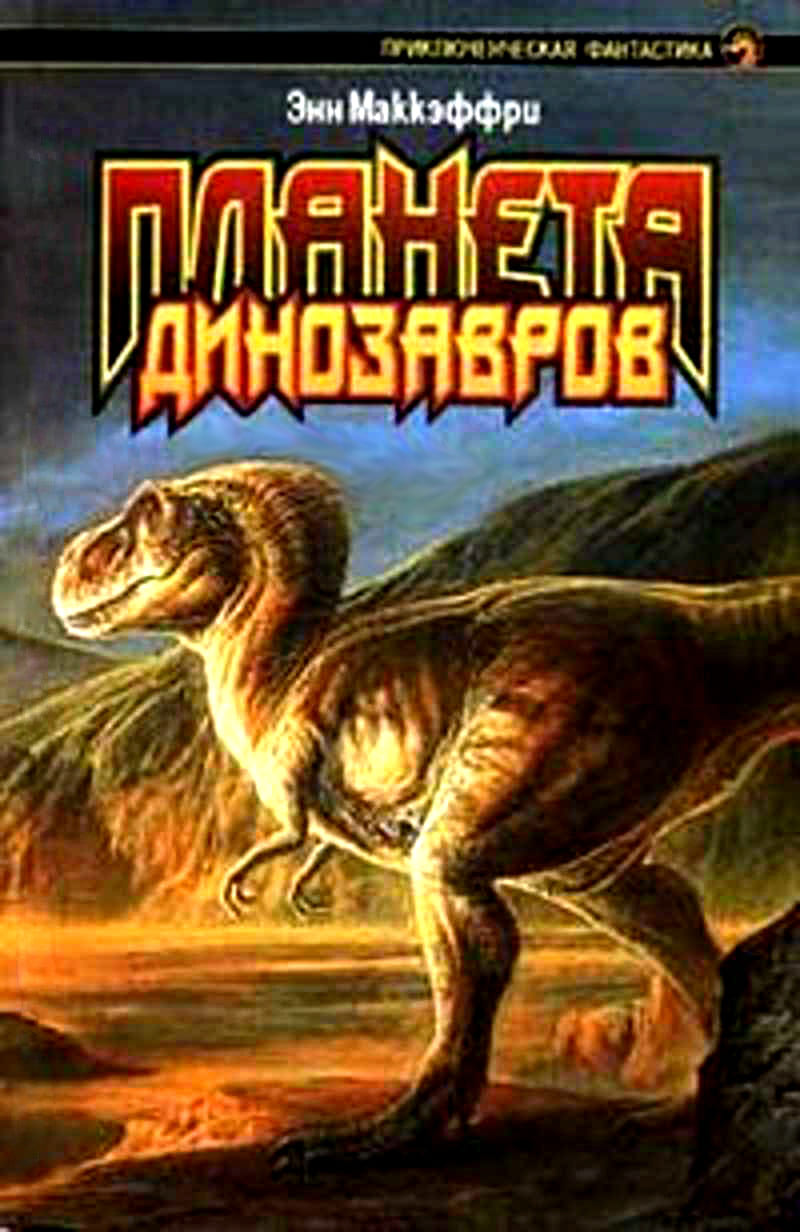 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн