руки, маленький бубен, еще и не прикоснулась к нему своими длинными
холеными пальчиками, не прозвучал еще ни единый звук, а невозмутимый и
неподвижный дотоле султан дернул головой, дернулся весь, передвинулся на
троне, подложил под себя уже не одну, а обе руки, и лишь теперь в Настасе
пробудился дух соперничества, дух борьбы, гордости и достоинства. Что ей
та Гульфем? Красивая, здоровая, нахальная? Пусть! И что ей здесь все? Что
сам этот мрачный человек с закутанной, как поповский младенец, головой?!
Всех превзойти, победить, всех попрать! Показать всем! Чтоб они знали!
Хуррем? Пусть знают, какова Хуррем и что она может! Если бы не эта
Гульфем, если бы Настасю вытолкнули до красавицы одалиски, она бы пропела
свое без огня и без охоты, была бы просто еще одной из этой толпы, но, к
счастью или к несчастью, кто-то (валиде - кто же еще!) сделал так, что та
Гульфем своим торжеством, своею победой без борьбы зажгла в душе Настаси
такое неистовое пламя, что если оно и не сожжет кого-нибудь постороннего,
то уж ее самое наверняка.
изгибалась перед султаном, не заметила и движения султановой руки, вслед
за которым возле повелителя мгновенно оказался кизляр-ага и подал султану
легонький платочек из цветастой кисеи. Султан передвинулся на троне, как
будто готовился встать, что-то сделать. Настася не знала, что именно, но и
не зная испугалась так, что прыгнула на подмостки, где томно изгибалась
Гульфем, а евнух в белых шерстяных носках, боясь отстать от Хуррем, мигом
поволок за нею свой барабан, натолкнулся на разгневанную Гульфем, аж
загудело в пустоте его инструмента, и для Гульфем все пропало. Валиде
усмехнулась чуть заметно, Махидевран засмеялась неприкрыто, султанские
сестры переглянулись с улыбкой в глазах. Сулейман хоть и не поддался
смеху, овладевшему приближенными его женщинами, но передумал вставать,
остался сидеть, умостился еще удобнее и плотнее. И тут Настася запела
голосом высоким и печальным, барабан ударил, маленькая гибкая фигурка
пошла, изгибаясь, по кругу, понеслась, полетела, как луч, как сияние,
быстрее, быстрее, и уже летел один только голос на золотой волне, никто не
видел Настасю, только слышали глубокий ее голос, а она не слышала себя, не
видела никого и ничего, лишь всю себя, змеи красного света струились по ее
волосам, тени падали к ногам, как свитки темного шелка, гигантский барабан
гудел, как ее маленькое неудержимое сердце, широкие алые шаровары пугливо
трепетали вокруг ее ног, а голос рвался из тех страхов, забирался выше и
выше, точно хотел вырваться из огромной клетки гарема, оставив на самом
дне его свою хозяйку и обладательницу. Но голос не вырвался, Настася не
хотела его пускать, он должен был быть вместе с ней и в наибольшем горе,
как был когда-то во всех радостях. Ударил свет, резкий, звонкий, евнух в
белых шерстяных чулках мигом потащил свой барабан прочь, Настася, сама не
ведая, как и когда, очутилась в тяжелом облаке ароматов, которыми дышали
тела одалисок, посреди зала вновь кружилась стайка грациозных
танцовщиц-грузинок. Султан сидел на своем троне, такой же задумчивый и
равнодушный, и пестрый платочек, поданный ему кизляр-агой, словно крыло
убитой райской птицы, свисал с подлокотника трона. Вокруг Настаси царила
настороженность, напряженное выжидание, слышался тихий шепот, сбитые в
кучу тесно и плотно, как овечья отара, одалиски не решались ни
пошевелиться, ни дохнуть вольно, только сияющая Гульфем, обнаружив, что
Настася оказалась ближе к султану, чем она, почти нагло протолкалась туда
и заслонила ее своим роскошным телом, выставляясь на глаза Сулейману, не
пугаясь испепеляющих взглядов Махидевран, которая не терпела соперниц,
даже временных и без значения. Султан, точно зачарованный зрелищем
цветущей Гульфем, медленно встал, махнул слабо рукой, словно искал в
воздухе что-то невидимое. Кизляр-ага, мгновенно очутившийся возле
Сулеймана, подхватил прозрачный цветастый платочек, оставленный султаном
там, где он лежал, и пошел за своим повелителем, держась почтительно за
его правым плечом.
присматривался к тоненьким танцовщицам, но, наверное, стало ему скучно от
неразличимого мелькания рук, ног, лиц, оголенных грудей, жадно раскрытых
глаз, разомкнутых губ. Он медленно пошел к толпе одалисок, шел словно бы
прямо на Гульфем и смотрел, казалось, только на ее черную густую гриву, но
неожиданно миновал одалиску, толпа расступилась перед ним, как Красное
море перед Моисеем, султан отважно углубился в это море нежности, красоты,
вожделения, надежд, отчаяния, его тонкие губы под длинными усами незаметно
складывались в улыбку, но кому предназначалась та улыбка, кого ждали
счастье, вознесение и взлет? Сулейман бродил среди полуоголенных девичьих
тел, как слепой, едва не ощупью, никого не видел, не замечал, снова
свернул туда, где была Гульфем, и та горделиво выпятила грудь, эту западню
сладострастия, в которую неминуемо должен был попасть султан, но он не
дошел до нее, неожиданно взмахнул правой рукой наискосок снизу вверх,
кизляр-ага, бросившись на этот взмах, мгновенно вложил в султанову руку
кисейный платочек, кисея повисла на какое-то время в пространстве, все
глаза летели к платочку и упали вслед за ним, как подстреленные
безжалостным стрелком, упали, чтобы увидеть... Бдительно и строго хранит
свои тайны гарем, но даже за гаремные стены проник взгляд Сулейманова
личного биографа, который не смог удержаться, чтобы не описать событие, с
какого началось вознесение никому не ведомой рабыни с Украины:
красота в Царьграде считалась классической, султан внезапно остановился
перед нежным и милым лицом. Он опустил взгляд на лицо, поднятое к нему,
лицо без видимой красоты, но с искусительной улыбкой, зеленые глаза,
затененные длинными ресницами, обращались к нему не только шаловливо, но и
дерзко. И он, видевший столько взглядов, полных страсти, муки и унижения,
неожиданно поддался тем смеющимся глазам девушки, которую в гареме назвали
Хуррем. Платочек, легкий, как паутинка, оставил на нежном плече той, кого
весь мир вскоре назовет Роксоланой>.
засмеяться от радости и восторга... Какая девушка не мечтала об этом? А
тут тяжелое, как смерть, молчание, и кисейный платочек, неслышно
опустившийся на твое голое худенькое плечо, и больше ничего. Разве что
завистливые взгляды, и ненависть Гульфем, и еще большая ненависть
Махидевран, и нескрываемое удивление всегда невозмутимой валиде. Неужели
обычному платочку придают здесь такое значение?
султановы сестры и Махидевран. Евнухи погнали одалисок к их пристанищам,
пошла в толпе и Настася-Хуррем. Ничего не изменилось, только был у нее на
плече прозрачный платочек, к которому, как заметила Настася, не решались
прикоснуться ни одалиски, ни евнухи, ни даже сама валиде, кивнувшая
девушке милостиво, когда проходила мимо. Неужели такая сила в лоскуте
прозрачной кисеи?
сказано: <Хочу, чтобы мне сегодня вернули платок>. И хотя никто, кроме
кизляр-аги, не слышал этих слов, весь гарем знал, что они будут
произнесены, только Настася не ведала ничего и весьма удивилась, когда
сама валиде пришла к ней в комнату, сопровождаемая старыми женщинами,
опытными в одевании и натирании одалисок, и повела девушку за собой, и
сама присматривала, как расчесывают, перечесывают ей волосы, как натирают
ее мазями и благовониями, как примеряют широченные, безбрежные, невесомые
ткани, забрав у Настаси даже ту прозрачную одежду, которая была на ней в
зале приемов.
ступенькам. Он был бос, ступал по коврам неслышно, чуть ли не крадучись,
босой была и Настася. Куда ее вели - к счастью или к преступлению?
сказала, что это добрый знак.
ступала по льду. Шла как на виселицу. Как на убой. Шла или вели?
ледохода. Но река высвобождалась из-под зимнего панциря всегда ночью, и
наутро только глыбы темного льда плыли в темной воде. И все вокруг было
темным, черным: земля, деревья, вода. Но чернота какая-то мягкая, словно
бы нежная, даже сердце сжималось, и хотелось плакать и смеяться.
Цинь-цинь, синичка!
тяжелых, расшитых золотом тканях, в коврах, в дурманящих ароматах,
расплывавшихся из больших бронзовых курильниц, она засмеялась громко,
дерзко. Это был смех испуга и отчаянья (ох, как же она замерзла!), но
никто не уловил этого, потому что для кизляр-аги смех нечестивой прозвучал
оскорблением его султанского величества, а Сулейману тот серебряный звон
наполнил хмурую душу такой щедростью, эхо которой будет звучать еще много
лет, на расстояния немереные и непредвиденные.
миров милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и
просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты
облагодетельствовал, - не тех, которые находятся под гневом, и не
заблудших>.
голые плечи накинул ей султанскую прозрачную кисею, шепнув сурово:
положенных один на другой, два нижних набиты ватой, верхний - пухом, лежал
на простынях из тонкого полотна, с множеством подушек, подложенных под
бока, под плечи и под голову, все в зеленых тонах - цвет Османов.
обнаженную Настасю (ибо что та кисея!) так неотрывно, что она замечала
только его взгляд и поначалу даже не поняла, что на нем нет его ужасающего



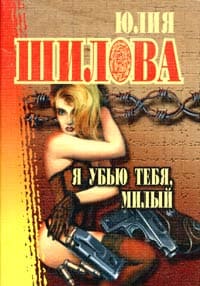


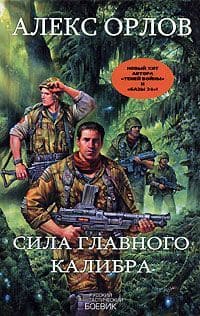 Орлов Алекс
Орлов Алекс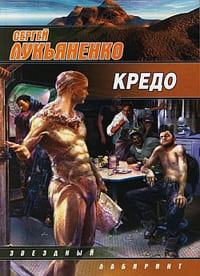 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Прозоров Александр
Прозоров Александр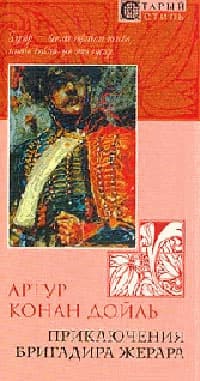 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Лондон Джек
Лондон Джек