тюрбана.
заметила, что на султане нет тюрбана. Голова у него была продолговатая,
как дыня. Настася чуть не засмеялась. Но было так холодно, что она не в
состоянии была даже сделать гримасу, лишь дрожала всем телом.
руки, поднял чашу, подал Настасе:
было конца. Тускло горели спрятанные где-то в углах ложницы светильники,
рассеивая красноватый свет, она брела в том свете, как в собственной
крови, ступала нетвердо, всю ее шатало, и дрожь била все сильнее и
сильнее. Наткнулась на мраморный фонтан посреди ложницы. Даже не заметила
его, когда вошла. Не знала теперь, как обойти.
Не бойся меня. Иди ближе. Смелее. Выпей это.
чашу, пила, проливая себе на ноги, на ковер, почувствовала на своем
нетронутом, пугливом теле сухую, теплую руку, была не в силах
сопротивляться той руке, которая опрокинула ее на край ложа, и султан тоже
почувствовал пугливость ее тела и тоже не мог (или не хотел) сдерживать
свою страсть, не мог ждать, <когда упадет падающее...>.
ничего, и лукавые линии ее маленького тела уничтожились его телом, сильным
и безжалостным, и только вскрик и всхлип, и небеса разверзлись, земля
расступилась, - и вздох прошелестел в пространстве, в садах, во дворцах,
всюду вздох, ее вздох. Бури, дожди, воды, страх, нетронутость, потоки и
потопы и тишина, как на краю света, - она уже женщина. Бросить девушку в
постель к чужому и враждебному - убить в ее душе бога. Звери ревели в
подземельях серая, как бы напоминая, что не ступишь по этой земле шагу,
чтобы не наткнуться на чудовище. Бешеный ветер бил в ворота, дудел тяжко и
скорбно, и плакали дерево, медь, железо, стонали задвижки и засовы, а у
нее стонала душа. Но Настася молчала, ни стона, ни вздоха, не зная, куда
податься, жалась к султану, и лежали они долго-долго, прижатые друг к
другу так плотно, что не оставалось между ними места ни для страха, ни
даже для несчастья. Ибо мир все равно прекрасен даже тогда, когда жизнь
печальна, тяжела и невыносима. <И создали мы вас парами>.
мог. Что-то мешало, а что именно - не мог определить. Может, ее
молчаливость? Женщины всегда невыносимо болтливы, он не терпел их
болтовни, может, потому, глубоко в душе будучи чуть ли не распутником, изо
всех сил сдерживал себя и выказывал к женщинам холодное безразличие. Идолы
не разочаровывают только потому, что они безмолвны. Может, и эта девушка
такой маленький идол? Но она слишком маленькая, чтобы вознестись до его
высот и служить ему идолом. Была и не была. Одна эта ночь для нее
останется воспоминанием величайшего (ибо недоступно!) счастья, а для него
- просто одной ночью, не более.
кизляр-ага выпроваживал женщин в их покои. Так же выпроводил он и Настасю,
ставшую уже теперь навсегда и навеки Хуррем. Не проронила султану ни
слова, чем подивила его и немного рассердила. Но все равно велел, чтобы
определили ей отдельный покой и выдали из сокровищницы большие рубиновые
сережки и рубиновый перстень - любимые камни Сулеймана. <И вознаградил их
за то, что они вытерпели, садом и шелком>.
набросил на нее, дал ей и обувку, но она оттолкнула шитые бисером
сафьяновые туфельки, пошла назад босиком потому что уже не мерзли ее ноги,
а пылали, как и все тело, огнем.
Сулейман забыл о ней уже утром.
стоящие ближе всех к Сулейману, не могли сказать с уверенностью, как
поведет он себя на высоком троне, какие сделает первые шаги, кого возьмет
себе за образец: покойного отца своего султана Селима, кого-то другого из
султанов, Железного Тимура или знаменитого Искендера?
завоевателя Царьграда, султана, который никогда не впадал в отчаянье, даже
поражения умел превращать в победы, не терял впустую ни единого дня, ни
единой минуты, и когда оставался без власти, заботился о собственных
знаниях, а когда готовился к величайшему деянию своей жизни - взятию
Царьграда, - сам носил камни для сооружения крепости Румелихисар и сам
тесал доски для кораблей, которым предстояло пройти по суше к столице
императоров, наполнив сердца греков мистическим ужасом. Сулейман любил
повторять про себя царское стихотворение, прочитанное Мехмедом Фатихом,
когда тот вошел в поверженный Царьград:
в Царьград, - превратил самый большой храм нечестивых в мечеть Айя-София.
Не разрушил его лишь потому, что свод в храме напоминал небесный. Зато
храм Апостолов, который византийцы в бессмертной своей гордыне считали
воплощением красоты и гармонии (для Софии оставляли величие), велел
немедленно разрушить и поставить на том месте мечеть Фатиха. После его
смерти возле михраба* мечети поставили тюрбе султана - его усыпальницу.
Когда-то в церкви Апостолов хоронили византийских императоров, теперь тут
лежал Завоеватель. Без пышности, только в сопровождении верного Ибрагима и
личной охраны, Сулейман часто ездил к тюрбе Фатиха. Огромный город
отступал от него, затаивался в своей непостижимости, залегал в
неподвижности, как солнечные часы. Только тень передвигается по кругу.
Вневременность, мертвенность. Однообразие мечетей, минаретов, фонтанов,
журчания воды и крика муэдзинов вызывало какой-то удивительный трепет
этого города, монотонность, нарушаемую хаосом, мешаниной, приглушенным
уличным шумом, далеким клекотом пестрой толпы, шелестом дорогих тканей,
шепотом доносчиков, ударами чаушей, смехом блудниц, стоном невольничьих
рынков, любовных вздохов, чавканьем псов и людей, стихами Корана.
ад, место пыток и роскоши. Как задержать время жизни? Над этим бьются все,
от султана до нищего, а знает это только сам Стамбул. Мехмед Фатих
завоевал этот город, но завладел ли им до глубины? И кто завладеет и
овладеет?
ответа на то, что раздирало ему сердце, чем не мог поделиться ни с кем из
живых. Приходил к мертвому.
должен был вот-вот подняться, покрыта белым кашемиром, сверху небольшой
ковер и зеленая шаль - цвет Османов. В головах большие, толстые, из
бараньего сала свечи (не восковые, ибо аллаху должен приноситься в жертву
домашний скот, а не мухи) в подсвечниках из ляпис-лазури, камня египетских
фараонов. Тюрбан, точно опрокинутая чаша, висит вверху. На ковре цвета
земляники ходжа днем и ночью читает Коран. <Скажи: <Он - Аллах - един,
Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!>
Десять, сто, тысячу раз ту самую суру <Очищение веры> читает ходжа, и так
же повторяет за ним слова книги султан, пока скучающий Ибрагим, терпеливо
стоящий рядом, разрешает нелегкую задачу: может ли человек, без конца
повторяя те же самые слова, о чем-то думать, вообще может ли выполнять
свое назначение на земле - мыслить, возносясь над миром живым и неживым,
если и не равняясь богу, то по крайней мере приближаясь к нему?
всякий раз, подъезжая к Фатиху и возвращаясь оттуда, видел высоченную
порфировую колонну Кызташи, одиноко стоявшую неподалеку от мечети, но ни
разу не обратил на нее внимания, как не обращал видимого внимания на все,
что попадалось ему на пути. Мало ли колонн в Стамбуле, каких не укрыло
османство в своих священных строениях, и теперь эти камни нечестивых
торчали повсюду: и по сторонам дороги, по которой ездил Сулейман на
Ок-Мейдан, - белые мраморные колонны, которые ничего не поддерживали; и
колонна императора Константина, называемая Чемберли-таш, - камень с
обручами - окована была железными обручами после того, как молния отбила
ее верхушку и как опалило ее пожаром во время восстания Ники; и готтская
колонна под стенами гарема, вырезанная из сплошного гранитного блока,
когда-то на ней якобы стояла статуя основателя города Бизаса; и змеиная


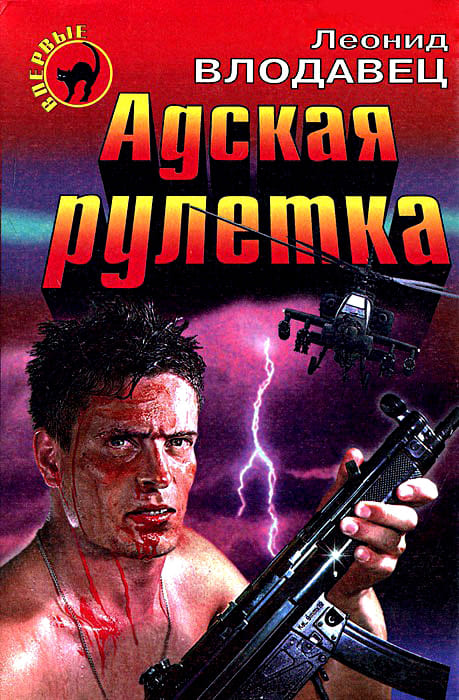
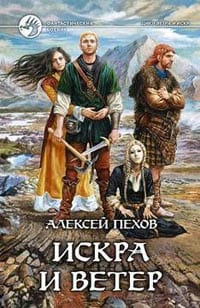


 Трубников Александр
Трубников Александр Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия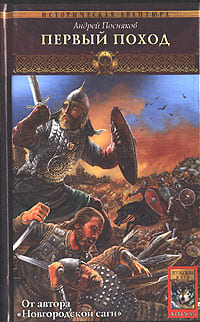 Посняков Андрей
Посняков Андрей Лондон Джек
Лондон Джек Пехов Алексей
Пехов Алексей