нашлась, незаметная и приземистая, как и само строение. И людей стала
полна горница, когда теплая волна гаремниц заполнила хамам. Внутри еще
царила темнота, ибо все помещение освещалось только через небольшие
круглые прорези в куполах. Женщины шумливо, торопясь, раздевались меж
высоких колонн, окружавших круглый просторный зал, пышущий приятным сухим
теплом. Складывали свою одежду, свои бохчи на резных деревянных скамьях,
завертывались в яркие простыни - пештемалы, разбредались по бане, никем не
охраняемые, обретшие временную свободу хотя бы в этом каменном средоточии
тепла, воды и покоя. В круглом зале раздевальни посреди мраморного пола
бил фонтан, от него отходили уступами мраморные чаши, все уменьшаясь. Вода
тихо журчала, переливалась из больших чаш в меньшие, и, как бы вторя
голосу воды, безумолчно пели желтые канарейки в клетках, украшенных
голубыми бусами - бонджук. Узкие двери вели в теплый соуклук, где на
деревянных широких скамьях, подкладывая под головы и под бока маленькие
подушечки, уже лежали, парясь, одалиски. Множество маленьких дверей вели
из соуклука в комнаты для омовений, а через широкий проход можно было
попасть в третий мраморный зал, где вдоль стен стояли мраморные
ванны-курны и над каждой из них - бронзовые краны с горячей и холодной
водой, в четырех углах, отгороженные низенькими стенками, были купальни
для валиде, баш-кадуны Махидевран и султанских сестер, а посредине
просторное восьмиугольное возвышение Гь"йбек-таш (Камень-пуп) для тех, кто
хотел изведать истинное наслаждение хамама.
улеглась на теплое мраморное возвышение, которое шло вокруг залы под
колоннами, не брала подушек, спрятала лицо в согнутых руках, только
краешком глаза наблюдала, как медленно светлеет в зале оттого, что
становились все более мощными столбики света, падавшие из стеклянных
колпачков в высоком куполе. Вокруг, давно уже поснимав пештемалы,
наслаждаясь вольной наготой, отлеживались одалиски, грелись на теплом
мраморе, парились, исходили потом и ленью. Тело становилось как замазка.
Не хотелось ни шевелиться, ни говорить, ни думать. Может, в этом тоже
счастье?
белокурая полнотелая венецианка Кината. Розовая ее кожа так и пышела
здоровьем, тепло входило в Кинату и щедро вырывалось из каждой клетки ее
сильного тела. Рядом с этой могучей самкой Хуррем казалась даже и не
девочкой, а мальчиком - маленькая, тонкая, только груди тяжелые и
выпуклые, но она прятала их под себя, лежала ничком, поглядывая по
сторонам своими зелеными глазами, из которых так и выпархивал смех, - да и
как тут не смеяться при виде этих голых ленивиц, распаренных, разомлевших,
одуревших от тепла, хотя - она не раз уже убеждалась - не стали бы они
умнее и на злейшем холоде, среди снегов и морозов.
зашептала Кината. - Бирюза в золоте, серебряная посуда для омовений.
один раз была у султана?
Манисы. В Манисе мы погибали от скуки. Там теснота и убожество. Как мы
ждали, когда умрет Селим и султаном станет Сулейман! Как хотелось роскоши
и сытости Царьграда!
замахала на нее руками Кината. - Пророк запретил вспоминать его.
повторять вслед за евнухом, который тебе подсказывает: <Признаю, что есть
только единый бог и Мухаммед его посланник. Признаю, что перехожу от
ложной в праведную веру, и отрекаюсь от предыдущей веры и всех ее
символов>. Целуешь руку кадию - и все. Мужчинам надо терпеть еще это
ужасное обрезание и носить потом всю жизнь чалму, а нам так просто!
Хотела еще похвалиться, что она дочь священника и потому ценит свою веру
особенно высоко, но промолчала. Разве теперь имеет значение, кто ты и что
ты?
сказал?
слыхала? А меня выкрали морские разбойники Хайреддина Барбаросы. Это
страшный человек. Он хотел меня изнасиловать, как только увидел. Но решил
подарить в султанский гарем и не тронул. Тут же велел принять их веру.
Иначе грозился бросить в море. Если бы ты видела этого краснобородого
разбойника!
жизни и умираете легко и охотно.
У меня тело лучше, чем у Гульфем. Только она чернявая, а Сулейману
нравятся чернявые.
как гора молодого мяса, как поверженная белая башня, как нахальное
воплощение похоти и низменности. Только представить себе, что и эта была
на султанских зеленых подушках. Проклятый мир! Проклятый и заклятый!
отвязаться, хоть ты ее режь!
вздохнула она.
тело, и то не могу привлечь повелителя, а ты... Ребра все посчитать можно.
Кости так и колются... Султан и платочек случайно опустил тебе на плечо.
Намеревался на меня, а упал на тебя. Все это видели...
одалиской, хвасталась, как провела ночь с султаном и как тот сказал, что
ему понравилось ее тело. Тут она вспомнила, что не спросила у Хуррем
самого главного, и, забыв обиду, какую могли нанести Хуррем ее последние
слова, снова переползла к ней, тяжело шлепая по мраморным плитам пышными
бедрами.
вода, но когда ступила в зал Гь"йбек-таш, ударили ей в уши визгливые
женские голоса, переплетались с журчанием воды, талалаканья и галалаканья,
шепоты и сплетни, вздохи и смех. Где тут спрячешься, куда подашься?
Может, хоть здесь найдет спасение от этого шумливого одурения. Только
растянулась на горячем мраморе Гь"йбек-таша, как на нее, не спрашивая,
молча накинулась жилистая усатая бабища с шершавыми, как у кожемяки,
руками, схватила голову Хуррем, стала безжалостно тереть лоб, виски,
скулы, челюсти, потом принялась за шею, за руки, ноги, пальцы, груди,
живот, бедра, била, лупцевала, растягивала, сжимала, выкручивала руки и
ноги, играла на позвонках и на ребрах, как на цимбалах, упиралась коленями
в спину, подпрыгивала, кряхтела, урчала, потом стала вытанцовывать на
Хуррем, топтала ее ногами. Хуррем стонала, охала, вскрикивала и уже не
знала, где боль, где удовольствие, где жизнь, где смерть. Вот что такое
хамам!
омертвевшую кожу, все лишнее, ненужное, под ее безжалостной рукой Хуррем
линяла, как змея, словно бы заново рождалась на свет, а ее мучительница
уже разводила в большом медном тазу мыло, взбивала его пальмовой мочалкой
до высокой, пышной пены, напустила той пены полную наволочку из крепкого
полотна, еще и надула ее и начала тереть Хуррем той наволочкой-пузырем,
била, массировала, топила ее в мыльной пене, трижды вымыла волосы, смывая






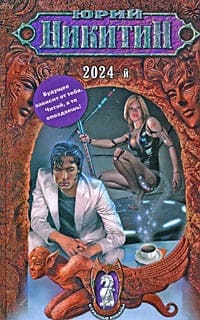 Никитин Юрий
Никитин Юрий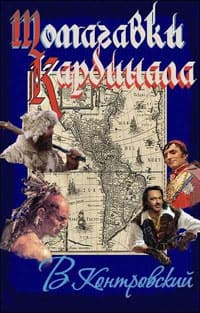 Контровский Владимир
Контровский Владимир Якубенко Николай
Якубенко Николай Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Прозоров Александр
Прозоров Александр Зыков Виталий
Зыков Виталий