попеременно то теплой, то ледяной водой, долго вытирала и завертывала в
сухие, теплые пештемалы, и только тогда Хуррем заметила, что за всеми
этими сладостными пытками пристально наблюдала валиде.
деревянных сандалиях, украшенных перламутром и бирюзой, валиде стояла
спокойно, молча, невозмутимо, словно бы не лились вокруг нее потоки воды,
не летали целые облака густой мыльной пены, не клокотало все замкнутое
пространство визгливыми женскими голосами. Полуприкрытые веки как бы
свидетельствовали, что валиде видела все, даже больше, чем надо видеть
постороннему человеку, что она перенасыщена виденным, утомлена, может, и
разочарована, ибо надеялась на нечто большее от этой удивительной девушки,
которую султан выделил, как только увидел среди гаремниц, а потом забыл
так же неожиданно, как и облюбовал.
повела за собой в соуклук, дала себя догнать, пошла рядом с Хуррем, как с
равной, неожиданно спросила голосом, лишенным любопытства, холодно и
равнодушно:
словечко <тоже>, в котором слышались презрение и надменность, поэтому она
почти надменно бросила на валиде быстрый взгляд, окинула султанскую мать
взглядом с ног до головы, точно желая сказать: <Ты такая же маленькая, как
и я, а родила ведь такого долговязого султана>, но вовремя сдержалась,
сказала другое:
разговоров, арабский из Корана, персидский из поэтов.
чтобы рожать султану детей или не рожать их. Заруби себе на носу, девушка.
Пойдем со мной, тебе надо побольше есть. Ты совсем невзрачна телом. <Не
понесет носящая ношу другой...>
- нечто вроде закуски-перекуски: копченую рыбу, морских устриц, печенку,
холодный бараний мозг, вареных молоденьких баранчиков, патладжаны,
тушенные в оливковом масле, брынзу с кусочками сладкой дыни, зелень,
фрукты, долму из перца в виноградном листе, лукум и щербеты, йогурт и
айран с чесноком.
уже объедались сладостями Гульфем, Кината и еще несколько толстых
одалисок, любивших поесть. Хафиза, дочка султана Селима от первой жены,
выданная за придворного капиджибашу, которого вскоре султан Селим за
какую-то незначительную провинность велел казнить, подавленная своим
вдовством, считалась в гареме милостивее красавицы Хатиджи, чванливой и
мстительной, любимицы своей матери - валиде, поэтому Хуррем села возле
Хафизы, которая немного подвинулась, давая ей место, и даже изобразила на
лице некое подобие ласковой улыбки, хотя султанским сестрам не полагалось
проявлять к одалискам ничего, кроме презрения и безразличия.
полулежали на широких, удобных диванах, наслаждались сытостью, теплом,
легкостью в теле, блаженствовали, наибольшую же радость получали от
беспрерывной болтовни, хвастовства, восторгов, пересказывания ужасов,
мерзостей, недозволенностей. И сама валиде, несмотря на свое высокое
положение, превратилась в обычную любопытную женщину, лежала среди этих
молодых сплетниц и хоть в разговор не вступала, но и не останавливала ни
Хафизу, ни Гульфем, ни Кинату, у которых не закрывались рты в разговорах
то о противоестественной похоти, то о неверных женах, то о богатых
купцах-гяурах, не жалеющих денег за хорошо ухоженную, наученную всему
гаремную жену. Рассказывали о какой-то богатой стамбульской кадуне,
которая, влюбившись в молоденькую девушку и переодевшись мужчиной,
соблазнила отца девушки огромным калымом, справила свадьбу, но в первую же
<брачную> ночь обман был раскрыт, девушка вырвалась от похотливой бабы,
подняла крик, кадуну поставили перед стамбульским кадием, и когда тот стал
допрашивать ее, она воскликнула: <Вижу по всему, честный кадий, вы не
знаете, что может значить любовь для нежного сердца. И пусть хранит вас
аллах, чтобы вам никогда не довелось почувствовать всю жестокость того,
что пережила я>. Кадий чуть не умер со смеху, слушая ошалевшую бабу. Чтобы
она остыла, приказал зашить ее в кожаный мешок и бросить в Богазичи, что и
было сделано.
где-нибудь прелюбодеев, то бросают их в зиндан*, а наутро ведут к
субаши**, тот, по обычаю, велит посадить блудницу-жену на осла, к голове
которого привязывают оленьи рога, а ее любовник должен взять осла за повод
и провести через весь город на всеобщее посмеяние. Впереди идет слуга от
субаши и дует в рог, созывая люд, любовников забрасывают гнилыми
апельсинами, камнями, когда же они, опозоренные, полуживые, возвращаются
домой, то женщину еще заставляют заплатить за осла, словно она его
нанимала для такого развлечения, а мужчине дают сотню ударов по пяткам или
же берут откупного по аспре за каждый удар.
дочерям не положено то, что низкорожденным.
в которую погружалась под монотонное журчанье голосов.
валиде. - Ты же не знаешь про Хуму? - спросила она у Хуррем.
знаю.
валиде, - негоже трепать языком о его жене.
повернулась к ней Хафиза. - А что с того? За шестьдесят лет своей жизни он
насобирал столько титулов и званий, что хватило бы на тысячу воинов, а
кому от того польза?
Хуррем Бали-бега: крепкий столп, высокое знамя, великий прорицатель из
прорицателей, величественный, как звезда Юпитер, сияющий, как утренняя
заря, пылающее острие меча, занесенная над шеей божьих противников и
врагов пророка сабля, слава борцов за веру и подвижничество, уничтожитель
неверных и многобожцев, обладатель высоких достоинств и недостижимых
ступеней, за доброту нрава и щедрость возносимый до небес, благодарный
господу за дарованные ему блага. Этот человек швырял под копыта своего
коня целые земли, оставлял позади себя целые горы трупов, но не способен
оказался на то, на что способен последний бедняк, - не удержал свою жену.
зовут Кучук Бали-бег. Как же он мог удержать Хуму?
Яхья-паша был женат на султанской сестре, родившей семь сыновей, в том
числе и Бали-бега. За Бали-бега султан Баязид выдал свою дочь Хуму. Хума
была так же далека от целомудрия, как ее муж от милосердия. Она упорно
вырывалась из гарема Бали-бега, ссылаясь на свое желание вернуться в
султанский гарем в Стамбуле, но по дороге всякий раз цеплялась за
какого-нибудь мужчину, обманывая или подкупая своих евнухов-надсмотрщиков,
ненасытная в любовных утехах, вожделеющая к новым и новым сообщникам
греха. Наконец в Стамбуле она по-настоящему влюбилась в молодого чтеца
Корана в Айя-Софии хафиза Делак-оглу и даже родила от него девочку.
Стамбульский кадий, не смея поставить перед собой Хуму, прогнал Делак-оглу
из джамии, и тот отправился в Эдирне. Но в Баба Эскерии он умер от чумы, и
когда Хума узнала об этом, то оставила сераи, метнулась в Ени Хисар,
откуда тайком пробралась до могилы Делак-оглу, откопала тело, убедилась,
что он действительно мертв, вновь зарыла, вернулась в Стамбул и закрутила,
как прежде с Делак-оглу, с его братом, тоже хафизом. Когда же молодой
хафиз изменил Хуме, она плюнула ему в лицо и утешилась с придворным
луноликим конюхом, потом взяла еще раба-черкеса, потом еще одного
раба-конюха, затем какого-то чауша, прислужника джамии султана Ахмеда, - и
все это не за свою необыкновенную красоту, а за деньги, за дурные и
несметные деньги. И так тянулось до тех пор, пока Бали-бег, не выдержав
позора, не пожаловался султану Селиму, и тот укрыл свою сестру где-то на
островах, подальше от соблазнов.
припевочки: <Чи ти мене вчарувала, чи трутiвки дала, ой що ж бо ти менi
розум зовсiм вiдiбрала? Ходжу, нуджу, гукаючи, говорю з собою: <Чи ти
тужиш так за мною, як я за тобою?>
отзвук и там и сям, запели и другие одалиски, песни были печальные и
безнадежные, протяжные и короткие, как вскрик, молодые голоса ударялись в
высокие каменные своды, падали вниз, точно раненые, некоторые лились ровно
и несмело, другие дерзко взлетали вновь и вновь под самый купол, точно
хотели пробиться наружу через те стеклянные колпачки, что впускали в хамам
узкие струи яркого солнечного света. Хуррем запела новую: <Посiяла-м руту
круту помiж берегами; ой, як тяжко менi жити помiж ворогами! Що ж я маю та
й бiдненька з ними учинити, кого ж бо я вiрно люблю, з сим менi не жити. А
вже ж моя рута крута береженьки поре, а вже ж мо... вороженьки попiд боки
коле. Ой, пiду ж я рутi крутi верхи позриваю, вороженьки спати ляжуть, я


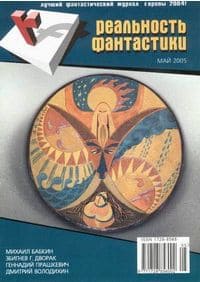
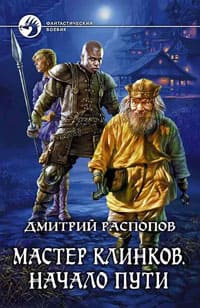


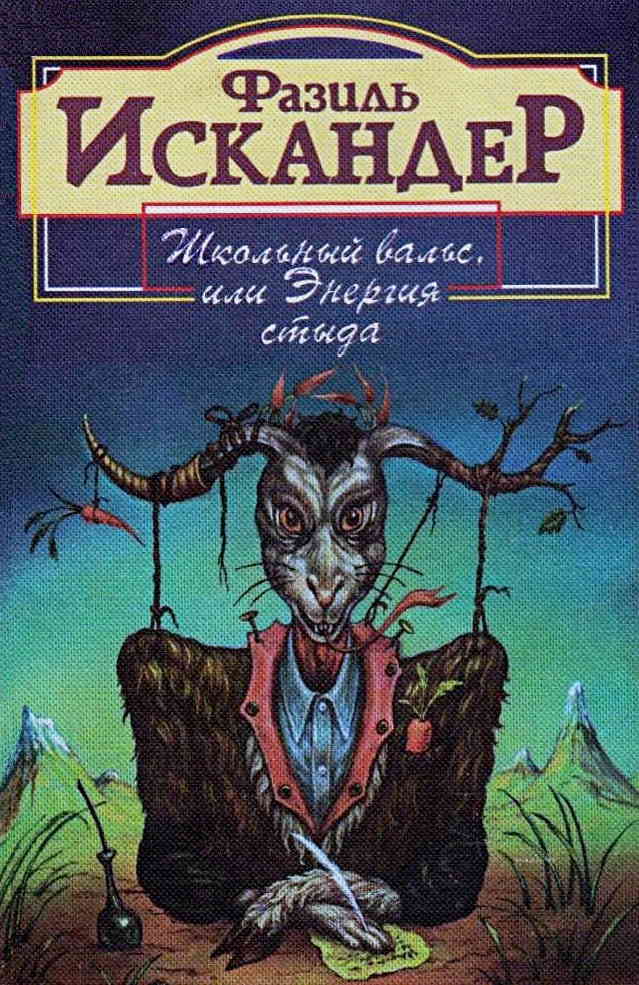 Фазиль Искандер
Фазиль Искандер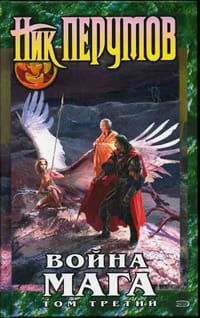 Перумов Ник
Перумов Ник Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Пехов Алексей
Пехов Алексей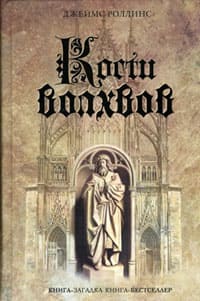 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Прозоров Александр
Прозоров Александр