си погуляю. Колом, колом по-над водом, там стеженьки в'ються, часом душа
невинная, люде набрешуться...>
что незамедлительно и поплатился, покрывшись обильным потом. Четырехглазый
нашел взглядом валиде, направился к ней. Никто даже не закрывался от глаз
черного дьявола, который и без того видел не раз каждую из них в чем мать
родила. Кизляр-ага уже давно воспринимался ими не как живой человек, а как
нечто вроде подвижного орудия султана, этого султанского прислужника
ненавидели они тяжко, люто.
печально произнес:
переплетается с настоящим, порой лишь маячит на горизонтах сознания,
всплывает в мучительном воспоминании или же приходит в снах.
долго ли она удержится в неестественной своей раздвоенности, когда прошлое
отнято у нее навеки, а настоящее призрачно, неопределенно и тревожно?
пришли к ней два страшных сна.
вымирающего Стамбула. Мертвые дома, мертвые улицы, огромные черные возы
вывозят трупы за врата Стамбула, везут их навстречу победоносному войску,
которое султан ведет из-под Белграда. Черные люди, в просмоленной черной
одежде, вытаскивают умерших из домов, подбирают на улицах, во дворах
мечетей, на базарах. Закрыт Бедестан, опустели мечети, не раздаются с
высоких минаретов звонкие азаны муэдзинов, всюду только следы смерти,
пожаров, грабежей, эти жуткие возы, полные трупов. Черные возы, черные
кони, черные люди в черной, просмоленной одежде и черные костры за вратами
Стамбула, на которых сжигают трупы.
человеческого голоса, ни пения птиц, ни звериного рыка, - только мертвый
всплеск воды в мраморных фонтанах, на плитах которых упорно повторяются
слова Корана о том, что только вода дарует всему жизнь; идет по Стамбулу
не Настася, а Хуррем, султанская жена, баш-кадуна, а ей навстречу через
Эдирне-капу входит султан Сулейман, без свиты, сам-один, и не на коне, а
пеший, весь в золоте, печальный и несчастный, и протягивает к Хуррем руки,
умоляя о чем-то, и тогда она видит, что золото на нем такое же черное, как
все в мертвом Стамбуле.
брошена она в пропасть нового сна, теперь уже сна для Настаси, для той,
что была где-то и когда-то, но и для той, что есть здесь, раздвоенная
между прошлым и настоящим, между жизнью и прозябанием, которое невыносимее
и тяжелее смерти.
молока сметану в крынку - пекла для батюшки Гаврила пирожочки с творогом,
из простого теста, на сковородке, смазанной сливочным маслом (смазывала
сковородку перышками), горячие пирожочки с холодной густой сметанкой
батюшка очень любил на похмелье, а еще больше любил похваляться теми
пирожочками: его Александра умела их печь так, как никто не только в
Рогатине, но, пожалуй, и в самом Львове, а то и в Кракове.
перед перекладиной висели пучочки сухих трав, которые мамуся собирала для
ведомых только ей нужд, тяжелая дубовая дверца закрывала люк так плотно,
что поднять ее мог разве что сильный мужчина, но Настася давно уже
приноровилась закладывать в большое кольцо на дверце палку-рычаг и ловко
поднимала ее, - ведь в летний день приходилось иногда бегать в погреб не
раз и не два, а помощи от батюшки женщинам семьи Лисовских нечего было
ждать. Держась за деревянный брус рамы, Настася ступила на верхнюю
ступеньку лестницы, нащупала ногой следующую ступеньку, перенесла тяжесть
тела на другую ногу и вдруг почувствовала, что ступенька обломилась под
ней. Насилу удержавшись за брус, она рухнула всем телом вниз, зацепилась
за последующую ступеньку босыми ступнями, осторожно продвинула руки по
стоякам лестницы, держалась, собственно, больше руками, чем на той
ступеньке, когда же стала нащупывать ногой следующую ступеньку, то та, на
которой она стояла, тоже обломилась, и девушка сползла вниз, чуть не
закричав от испуга, не в силах удержаться одними руками. Та новая
ступенька, как только она ударилась об нее ногами, обломилась так же
неслышно и выпала из стояков, как гнилой зуб. Настася поехала вниз теперь
уже неудержимо, руки ее бессильно скользили по холодным осклизлым стоякам,
ступеньки выламывались одна за другой, словно бы их кто-то подпилил или
сгнили они все разом и именно сегодня должны все выпасть; крыночка для
сметаны, которую она поставила у дверцы и должна была взять, как только
станет устойчиво на лестнице, так и осталась там, наверху, а Настася
сорвалась с лестницы, упала на холодное глиняное дно погреба, сильно
ушиблась, но почти не ощутила боли, мигом вскочила на ноги, глянула вверх,
увидела прислоненную к крутой стене высокую лестницу с верхней и двумя
нижними уцелевшими ступеньками, лестницу, по которой никто уже не сможет
ни спуститься сюда, ни выбраться отсюда, в бессильном отчаянье затрясла
то, что осталось от лестницы, подпрыгнула зачем-то, хотя знала, что не
допрыгнет никогда до той верхней ступеньки, в неудержимой ярости застучала
кулачками в крутую стену погреба. Земля, желтая, холодная, склизкая,
равнодушно восприняла бессильные те удары маленьких кулачков, так же
равнодушно восприняла бы и Настасины слезы, но девушка и не собиралась
плакать, она закричала изо всех сил, голосом, еще полным надежды, без
отчаянья и растерянности, ибо все напоминало бессмысленную шутку. Кто-то
же да услышит!
слышал, не обеспокоилась мамуся ее исчезновением. Но ведь должны
обеспокоиться!
самом деле помогло, кто-то услышал, кто-то прибежал к погребу, заглянул
вниз и без размышлений прыгнул к Настасе. Не помощь, а еще один соучастник
ее несчастья?
помощи Настасе. Мигом кинулся подбирать ступеньки, жадно сгребал их в
охапку, сгибался над ними, чуть не ползая на карачках по дну погреба, и
упорно повертывался к девушке спиной, словно бы хотел заслонить свою
ненужную добычу.
почувствовала, что уже никакая она не Настася, а... Хуррем, и не в
Рогатине она, а неведомо где, и человек этот не кто-то неизвестный и
чудной в своем ретивом собирании ненужных деревянных чурок, а ближайший
султанов прислужник и любимец грек Ибрагим, купивший ее на Бедестане и
подаривший Сулейману в гарем. Ибрагим был одет как дильсиз из свиты
султана. В дамасковом ярком кафтане, подпоясанном в три обхвата поясом из
крученого шелка, в шелковых тонких штанах, в высокой шапке, покрытой
листком золоченого серебра. Сбоку за поясом у него был дорогой кинжал,
украшенный слоновой костью. Все это - шелк, золоченое серебро, слоновая
кость, странная одежда - так не шло к рогатинскому погребу, что Настася
чуть не засмеялась в округлую Ибрагимову спину. А он тем временем,
мгновенно размотав с себя тонкий пояс (этими поясами страшные дильсизы по
султанскому повелению душили людей), стал связывать собранные ступеньки,
еще больше округляя спину и жадно нагибаясь над своей добычей, а потом
отскочил в самый дальний угол погреба и, поблескивая густыми острыми
зубами, засмеялся Настасе (или Хуррем?) и крикнул по-гречески:
напугана была неожиданным появлением Ибрагима и всем этим происшествием.
Только что была непуганой, теперь стала напуганной. Непугана-напугана. Два
слова бились в ней, как птичка в клетке, наполняли сердце отчаяньем и
безнадежностью. Непугана-напугана.
ступенек, опутанных длинным шелковым шнуром, и то и дело выкрикивал свои
дурацкие слова на разных языках, которых Настася еще не могла знать, но
которые - о диво и ужас! - понимала!
сквозь тонкую кофтенку холодную осклизлость лестничного стояка и теперь
уже не отступала оттуда, стояла на дне глубоченного, как безнадежность,
погреба, а Ибрагим все прыгал, торжествуя, но постепенно утихомирился,
остановился, поглядел на девушку внимательнее, и она увидела в его глазах
такой же испуг, какой ощущала и в своих собственных. Он все понял. У него
были ступеньки, но без лестницы. Она завладела лестницей, хоть и без
ступенек.
вверху и внизу тремя поперечинами.
свое, вильнув спиной, отбежал подальше. А она боялась оторваться от
своего, схватилась за стояки обеими руками, выпятила грудь - попробуй




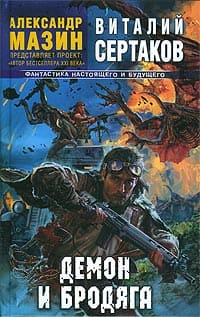

 Орлов Алекс
Орлов Алекс Посняков Андрей
Посняков Андрей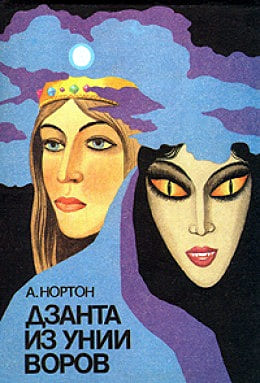 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ Ильин Андрей
Ильин Андрей Пехов Алексей
Пехов Алексей Корнев Павел
Корнев Павел