преследовавший недобитого противника, Баязид велел удушить брата у себя на
глазах, чтобы не иметь соперника на троне.
славянки. Еще не остыло тело князя Лазаря, а уже приведена была к Баязиду
его пятнадцатилетняя дочь Оливера, и когда двадцативосьмилетний Баязид
увидел ее красоту, то вспыхнула в нем такая страсть, что велел поставить
девушку в джамии в Аладжахисаре перед кадием и муллой, чтобы те
засвидетельствовали его брак с княжеской дочерью. До этого, кроме
множества гаремниц, у Баязида было две баш-кадуны - дочь турецкого бея
Давлет-хатун и греческая принцесса. Но то были жены не для любви, забыл о
них, как только взглянула на него своими большими глазами Оливера, как
только увидел ее золотые волосы, навек запутался в них своим взглядом и
всеми своими помыслами. Велел закрыть ей лицо шелковым чарчафом, чтобы
ничьи мужские глаза, кроме его собственных, не глядели на такую красу,
хотел отправить Оливеру в гарем, чтобы немного там подросла, но понял, что
не может без нее прожить ни одной минуты. Назвали Оливеру <Баш-кадуна
Султания>, выполнялись малейшие прихоти Оливеры, братьев ее Стефана и Вука
султан принимал при дворе, как самых дорогих гостей, впервые на османских
приемах появились греческие вина и сербская ракия. Неизвестно, не
завладела ли бы окончательно душой Баязида прекрасная Оливера, если бы
внезапно не появился из глубин Азии лютый хан Тамерлан и не разбил войско
победоносного султана на поле Чубук близ Анкары, захватив в плен самого
султана.
хромого кочевника. Может, видел из своей клетки Баязид, как жгли и грабили
орды Тамерлана первую османскую столицу Брусу, как превратили в конюшню
наибольшую святыню Брусы Ул-джамию, как захватили его гарем и полонили
Оливеру с двумя ее маленькими дочерьми.
поджав под себя перебитую, негнущуюся ногу, смотрел, как принесли в
железной клетке пленного султана Баязида, велел, чтобы прислуживала ему и
его гостям жена султана Оливера, совсем нагая, только в драгоценных
украшениях и с прозрачной кисеей на бедрах. Оливера не боялась смерти, но
когда ей сказали, что за непослушание будут убиты ее дочери, она
подчинилась и понесла кровавому Тамерлану золотую чашу с кумысом. Шла, как
голая по снегу, руки ее дрожали, кумыс расплескивался на белые бедра.
Тамерлан, прищурившись, спокойно созерцал вельможную пленницу, его старые
нукеры смотрели на Оливеру так же спокойно, зато нукеры помоложе насилу
подавляли в себе кипение крови, готовы были вскочить навстречу этой
женщине, и если бы не было там их повелителя, неведомо, чем бы все
кончилось. Оливера не видела никого и ничего, видела лишь свой стыд, свое
падение, свой позор, поэтому даже не удивилась, когда чуть не наткнулась
по пути на железную клетку, в которой, вцепившись в прутья побелевшими
пальцами, закусив губу, чтобы не взвыть от боли и ярости, стоял ее
повелитель, ее возлюбленный муж султан Баязид.
ее ног и приложить к глазам, как целительное лекарство. Но только стон и
мука. Ибо эти белые ноги шли не к нему и не для него.
сквозь прутья сказать Баязиду:
повелитель!
кумысом дальше, но потеряла сознание и упала.
скрывал в своем золотом перстне. И как ни добивался Тамерлан, чтобы врачи
спасли султана, потому что должен был повезти его в Самарканд как
величайшую добычу, против яда оказались бессильными все средства.
ордами Тамерлана, было восстановлено Османское царство. Старший сын
Баязида Мехмед умер от перенапряжения во время охоты на вепря, младший сын
Мурад долго боролся с названым братом Мустафой, наконец утвердился на
престоле, снова османская грозная сила нависла над славянским миром, и
снова, чтобы задобрить султана, брошена была ему в жертву молодая женская
жизнь. Сербский деспот Георгий Бранкович послал Мураду в жены свою дочь,
племянницу Оливеры, принцессу Мару.
же после походов против венгерского короля прибыл в столицу и перед ним
поставили Мару без ничего, лишь в прозрачной перевязи на груди, влюбился в
нее безумно, немедленно сделал ее женой, а потом - чего не бывало никогда
у Османов - отрекся от престола в пользу своего тринадцатилетнего сына
Мехмеда. На поле Мигалич возле Брусы, собрав своих вельмож, он сказал им:
<До сих пор я много воевал, шел от победы к победе, теперь хочу остаток
жизни провести мирно, далеко от распрей мира. Отказываюсь от царского
престола в пользу сына моего Мехмеда, сам отбываю в Манису отдохнуть>.
бы неотрывно в ее зеленые очи, положив голову на пышную ее грудь, забыв о
всех заботах, о державе, о самой жизни.
прозрачной водой. В шелесте листвы, в журчанье воды, в теплых ветрах с
недалекого моря - голос и смех и вздохи его возлюбленной Мары, а более
ничего.
опьянеть. Твои груди - как аллахов рай, войти бы туда и нарвать яблок.
Лечь между твоих грудей и заснуть. А потом отдать душу ангелу смерти -
пусть придет за нею>.
победить крестоносцев, которые шли на империю, после чего опять отдал
престол сыну Мехмеду и вернулся в Манису, где была Мара. Умер вскорости,
хотя был еще не старым (сорока семи лет). Говорили, что от холеры, но
догадки были - отравлен. Сына Мариного Ахмеда Мехмед велел задушить,
<чтобы сберечь единство, порядок и мир в державе>, самое Мару отослал в
Сербию, где не могли принять ее ни люди, ни сам бог, поэтому она вновь
возвратилась в Турцию и умерла незаметно, лишняя и чужая для этой чужой
земли и навеки оторванная от земли родной.
уничтожали, ни бросали на твердую землю, сколько из них ни истекали
кровью, ни разбивали сердца о белые камни, все же они всегда побеждали,
прорывались сквозь смерть и летели в родные края, чтобы дать начало новой
жизни.
себя не среди тех знатных славянок, царских и княжеских дочерей, а между
аистят с неокрепшими крылами, но с неугасимой жаждой жить и бороться. Уже
и не рада была, что вслед за своим непутевым и несчастным отцом называла
себя в шутку королевной. Не хотела сравняться ни с королевнами, ни с
княжнами, ни с боярскими дочерьми. А хотела быть аистенком, маленьким,
быстрым, неуловимым, смело бросаться в бой с османскими безжалостными
орлами и побеждать их.
в хищные когти которого брошена ее жизнь?
движение и на то, как снуют тени под прозрачной волной, и на полыханье
осеннего стамбульского солнца на лоснящейся поверхности моря? Может быть,
и он хотел стать таким чистым и незамутненным, как эта вода, но держава
заливала его отовсюду тяжелой мутью, и душа его - он ощущал это все
острее, - бессильная сопротивляться, становилась такой же мутной, как та
великая славянская река, которая смешивала пречистые свои воды под высоким
белградским берегом с глиняной взбаламученностью своего дерзкого притока.
Грязь всегда бьет в душу, в самое сердце, и спастись от нее невозможно.
Получив одно, теряешь что-то другое, может, и более дорогое. Чем больше
найдешь, тем больше утратишь. Взбираешься на заоблачную высоту не для того
ли, чтобы мучительнее ощутить весь ужас падения? Уже год, как он владел
наивысшей властью в своей земле, а может, и в целом мире. Власть
оставалась для него непостижимой и загадочной в такой же степени, как был
загадочен он, султан, для посторонних глаз. Власть утомляла и угнетала. От
нее невозможно было укрыться, отдохнуть. Нависала над ним, как камень.
Сидеть и ждать, пока она раздавит, не приходилось, поэтому он вынужден был
что-то делать, действовать, - так, пошел на Белград и сразу достиг успеха,
какого не знал ни один из Османов. Удовлетворился ли этим? И порадовалось
ли его хмурое сердце? Не смог бы ответить даже самому аллаху.
Неопределенность и растревоженность выливал в стихах, которые никому не
мог прочитать. Единственный человек, с которым он делился всем, - Ибрагим
- даже тот не хотел постичь великой растревоженности, наполнявшей
султанову душу. А что стихи без читателя? Переписанные самым умелым
каллиграфом, лягут навеки в султанском книгохранилище так же, как диван
покойного султана Селима, - даже нищенствующие поэты, которые бродят по
базарам с чернильницей за поясом, готовые за мизерную акча* переписать
первому встречному свое последнее стихотворение, даже они, если говорить
откровенно, счастливее самых пышных султанов, обреченных на загадочное
молчание, от которого нет спасения. Как завидовал Сулейман разгромленному
его отцом персидскому шаху Исмаилу, стихи которого разлетелись тысячеусто
песнями кызылбашей. А сочинял их шах под именем поэта Хатай, наверное,
также в часы одиночества и усталости от всемогущества власти, без надежды


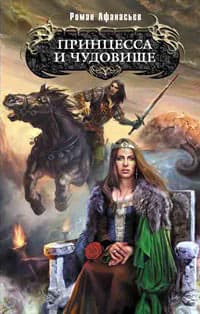


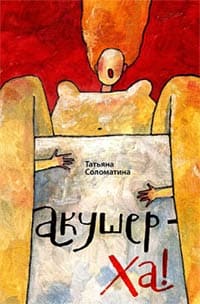
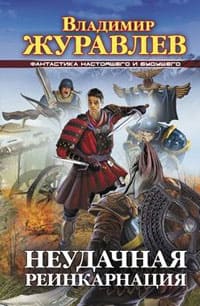 Журавлев Владимир
Журавлев Владимир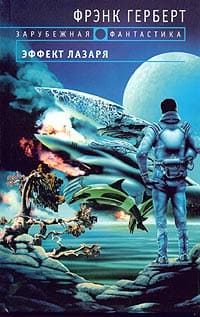 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк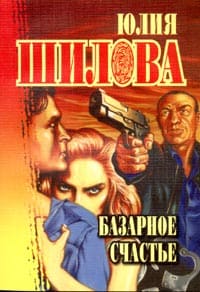 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия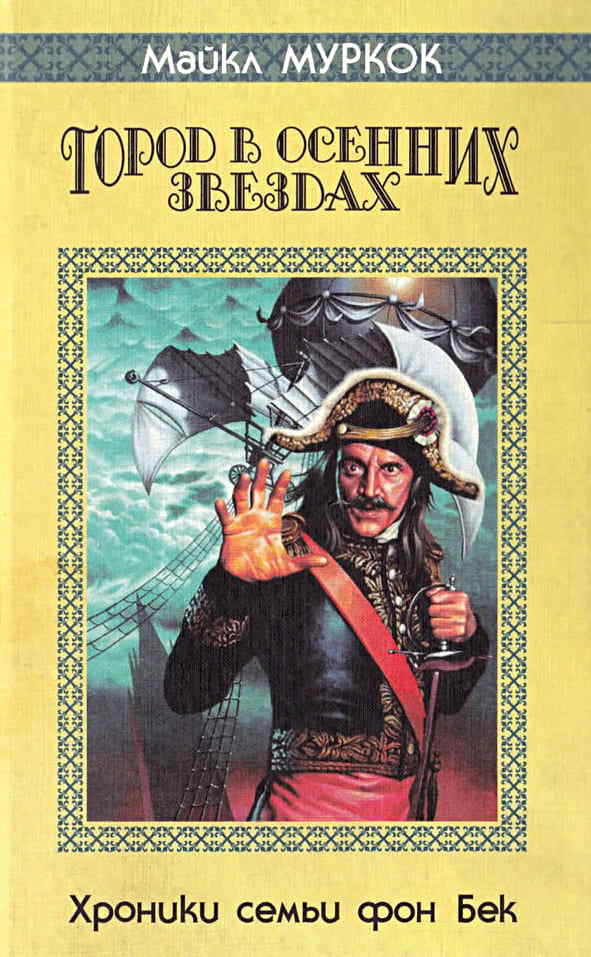 Муркок Майкл
Муркок Майкл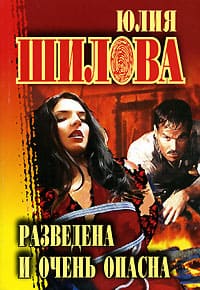 Шилова Юлия
Шилова Юлия