на возможность общения с людьми, и - как знать! - если бы не разбил его
войска султан Селим, может, залегли бы те стихи тоже неподвижно шахским
диваном, но несчастье дало им крылья, и разлетелись они - теперь не
соберешь, не удержишь, не запретишь, не уничтожишь! Сила бывает и в
бессилии. Он же владел силой несокрушимой, доказал это только что всему
миру на берегах Дуная, но та сила была не в состоянии побороть
растревоженность его души, непостижимую для него самого. Он кинулся в
чужую землю, в чужие просторы, подчиняясь голосу предков и голосу тех
просторов, и долго ему казалось, что именно в этом спасение, но со
временем, упорно вглядываясь в могучее течение славянских рек, услышал
голос иной, женский или детский, тот голос звал его оттуда, звал с неба и
на небо, голос неведомый, слышал его когда-то или и не слышал, голос как
печаль и щемящая боль в сердце, все бы отдал за него, за то, чтобы
приблизиться к нему на вытянутую руку, на взгляд, на вздох, но где его
найти? Просторы безмолвствовали. Молчали разрушенные, сожженные города,
молчала разоренная земля, молчали убитые люди - порубленные, посеченные,
задушенные, живьем закопанные в землю, молчали, ибо уста их были полны
земли, как у тех двух венгров, закопанных Ибрагимом уже после взятия
Белграда в позорной мстительности и жестокости. Сам выдумал эту кару или
выдумали они вдвоем - султан и его приспешник? Какое это теперь имело
значение? <Ведь человек создан колеблющимся, когда коснется его зло -
печалящимся, а когда коснется его добро - недоступным...>
теми, кто невредимо возвращался с берегов Дуная убийцами, грабителями и
победителями. В Стамбул прибыл тайком, залег в неприступных глубинах
серая, никого не подпускал к себе, не хотел видеть даже Ибрагима, отказал
во встрече самой валиде, лишь черный кизляр-ага по ночам водил к султану
то Гульфем, то других одалисок, привезенных еще с манисским гаремом, и
теперь они были единственными, кто мог хвастать и гордиться милостями и
вниманием самого падишаха. Тогда снаряжена была султанская барка, устлана
коврами, посажены на нее были арфистки и одалиски, и Сулейман долго
катался по Богазичи, и море звучало музыкой, пением и смехом. Султанские
дети умирали один за другим, отчаявшаяся Махидевран рвала на себе волосы,
билась от горя о землю, а Сулейман словно бы и не замечал ничего, пустился
в распутство, тяжкое и бездонное, так, словно бы навсегда забыл о величии,
которому служил первый год своего властвования с достойным удивления
рвением.
султана, никто не слышал того голоса, слышал его только Сулейман, все
попытки заглушить тот голос оказались тщетными, голос звал султана снова и
снова - куда, откуда?
напролет пили сладкие кандийские вина, Ибрагим умолял султана, чтобы тот
показался стамбульцам в торжественном выезде - селямлике, как и подобало
победителю над неверными, но султан не хотел являться даже на еженедельные
ритуальные приемы в Топкапы, где двор должен был видеть своего султана, а
султан - сквозь прозрачный занавес, отделяющий его трон от присутствующих,
- своих придворных. Он ничего не хотел - только бы знать про тот голос,
который звал его безустанно и упорно, но о котором он не мог сказать
никому, даже Ибрагиму, так как нахальный грек только бы посмеялся над
султаном, а над султанами не смеются.
кизляр-агой, одаривал как никто и никогда. Велел соорудить в Стамбуле еще
несколько имаретов - приютов для бедных. Допытывался у Ибрагима:
наивысшее счастье - быть рядом, наслаждаться близостью, о которой не смеет
думать ни один смертный. Чего же еще желать?
тебя никакой мечты, Ибрагим?
замедленностью, как бы наслаждаясь своим бескорыстием. Пусть знает султан,
какой верный его Ибрагим и как чисты его привязанность и любовь! А сам
между тем, весь напрягшись, лихорадочно думал, когда именно улучить
момент, проронить перед султаном несколько слов о Кисайе. О дочке
дефтердара Скендер-челебия, о которой снова упорно напоминал ему Луиджи
Грити, как только он вернулся из похода на Белград и они встретились в
Ибрагимовом доме на Ат-Мейдане, в доме, перестроенном неузнаваемо
благодаря стараниям все того же Луиджи Грити. Хлеб, мясо, фрукты, которые
плыли в Стамбул морем, шли по суше, проходили через руки Грити и
Скендер-челебия, а было этого всего так много, что нужен был сообщник,
хотя бы еще один, третий, и тем третьим хотели они Ибрагима в надежде на
его заступничество - когда возникнет необходимость - перед самим султаном.
Этот союз обещал Ибрагиму то, чего не мог дать и сам султан, - богатство.
Ибрагиму уже показали Кисайю. Нежная и чистая. Стоящая греха. Стоящая
целой притчи. Ибрагим осушил чашу с вином и спросил у султана позволения
рассказать притчу.
молвил Ибрагим.
опьянение! Не было Сулеймана, не было поэта Мухибби, разочарованного в
мирских делах, - сидел перед Ибрагимом твердый повелитель, могучий,
всевластный и жестокий.
хочешь, какой помощи. Теперь говори.
происхождения низкого, подлого. А вашему величеству подобает быть на
свадьбе только тогда, когда девушка из царского рода...
баш-кадуной?
повеление еще сегодня.
оттолкнул его. Даже прикрикнул разгневанно на своего любимца. И не за его
рабский жест, в котором, собственно, ничего не было необычного, а оттого,
что снова зазвучал над султаном тот загадочный женский голос и так
явственно, словно был здесь, между ними, протяни руку - дотронешься.
Дотронуться до голоса - возможно ли такое?
о моей воле. А меня оставь. Хочу побыть один. Не хочу никого видеть.
А принадлежал ли он кому-нибудь? Или жил в пространстве, как живут там
голоса земли и неба, ветров и дождей, дня и ночи?
кь"шке*, потом захотел послушать пение одалисок, увидеть танцы, но не в
помещении, а на траве, под деревьями, близ текущей воды, на просторе с
морскими ветрами.
мгла над Босфором. Гибкие стебли, зубчатые листья, лотосы, розы, тюльпаны,
гранаты. Ступили на ковры маленькие ножки, закружились в танце гибкие
фигурки. Султан, незаметный за густыми кафесами кь"шка, одиноко наблюдал
за этим праздником красоты, который предназначался лишь ему одному и все
равно не мог утешить его, затянуть его рану, исцелить от неожиданного
недуга, насланного какою-то злой силой, отдававшего эхом голоса, загадочно
непостижимого. Ему надоели танцы, и он махнул рукой кизляр-аге, требуя


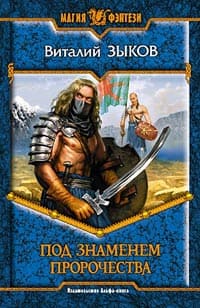
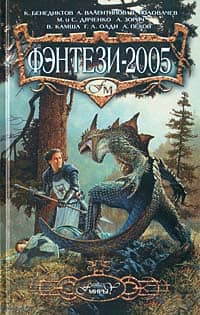

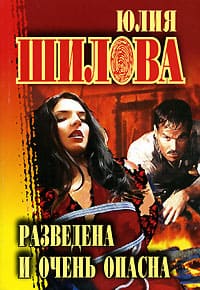
 Акунин Борис
Акунин Борис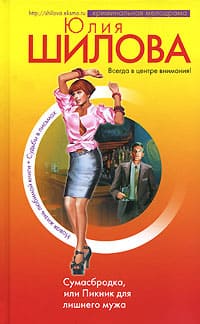 Шилова Юлия
Шилова Юлия Каменистый Артем
Каменистый Артем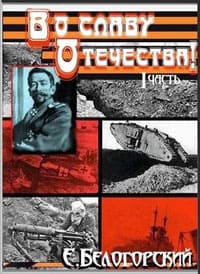 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений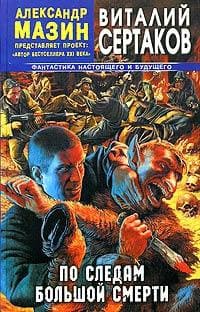 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Ильин Андрей
Ильин Андрей