песен. Но и песни не принесли утешения, и Сулейман хотел уже гневно
прервать забаву, как внезапно послышалось ему нечто словно бы знакомое, к
голосу, мучившему его вот уже столько времени, присоединился голос, словно
бы похожий, вот они слились - уже и не различишь, где какой, - и повели
турецкую песню, и не из тех, что должны тешить султанское ухо, а дерзкую,
почти грубую, с недозволенным намеком:
своим пением султана так, что он опустил ей на плечо кисейный платочек, но
о которой забыл сразу же после того, как подержал в объятиях. Но ведь пела
тем самым голосом, что мучил Сулеймана днем и ночью повсюду. Какое-то
наваждение. Он нарушил обычай и, подозвав кизляр-агу, сказал мрачно:
повеление еще более мрачное и гневное:
голос, узнавал его, удивлялся, не верил и в то же время ощущал радость
исцеления. Вышел из кь"шка, явился пред очи одалисок, взял у кизляр-аги
прозрачный платочек, и повторилось то, что было весной, - платочек лег на
худенькое плечо золотоволосой Хуррем, и от веселого маленького личика,
поднятого к султану, словно бы посветлело его хмурое лицо.
платок>. И сказал это не кизляр-аге, а Хуррем, так что Гульфем аж зашипела
от зависти, а Кината зацокала языком, как цикада.
Пока отпускал и Хуррем, которую должны были приготовить для ночи, -
приготовить рабыню для рабской ночи. Мама, пусти меня в детство, мамуся,
родная! Стоял над нею повелитель в золотой чешуе, одеревенело
выпрямленный, точно пораженный столбняком. Когда водили ему в ложницу
Гульфем, когда катался на барке с одалисками, тогда не звал ее, не помнил
о ней. А она? Ждала его зова, как пес свиста, или проклинала свое
ожидание? Ведь стала как все. Выбраться из рабства через рабство еще
большее, еще более безнадежное? Как все? Неправда! Должна всех превзойти и
победить! Разве не превзошла уже сейчас, лишь дважды явившись пред
султановы глаза и завоевав его проклятый платок?
апельсиновых деревьев, меж ароматов и прохлады. Зеленый ветер гнался за
нею из чащи, обнимал зелеными объятиями, тасовал зеленые тени на ее нежной
фигурке (в белом, вся в белом), и волосы ее становились как зеленоватое
золото, и из глаз било зеленью равнин. Когда-то рвалась в поле, в пору,
когда красовалось жито. Хлеба ложатся волной, жаворонки поют, ласточки,
как сине-белые стрелы, облетают тебя вокруг, каждая травинка, каждый
цветочек, каждый колосочек нашептывают тебе о какой-то великой тайне,
такой близкой человеку, всему живому, деревьям, солнцу, звездам,
вселенной.
осталось и никогда не вернется. <И вот я с вами во все дни до скончания
века>. Века кончились, оставлена она всем сущим, покинута, богом
оставлена, ни человек, ни собака. Надеется на спасение в месте самого
наитяжелейшего позора. Как она ненавидела теперь султана! Подлый
сластолюбец, адская пиявка, двуногий дьявол, обрезанный сатана! Хотела бы
быть змеей, только без яда, поганой крысой, только без чумы, собакой,
только никого не кусать, жабой, ящеркой, саранчой - кем угодно, только не
женщиной! И в то же время знала, что сможет победить только как женщина,
единственным оружием, какое имела, - телом чистым, нетронутым,
неповторимо-единственным.
мерзла, как по весне, не вздрагивала от страха, стискивала зубы,
прочитывала про себя молитвы, не мусульманские, нет, свои, еще отцовы, -
<Отче наш>, <Богородица дева...>, <Достойно есть>. Боже единый,
вездесущий, всемилостивый! Помоги, сохрани, помилуй, исцели! Обещано, что
праведники засияют в царствии божьем, как солнце. А разве же она не
праведница? Разве успела провиниться в свои шестнадцать лет? Почему должна
идти к этому человеку, такому темному душой, точно он вышел из
преисподней? Почему, почему?
как и тогда, сидел на ложе, только теперь был в тюрбане, беспомощно
молчал, смотрел на Хуррем, которая застыла, нагая, лишь с прозрачным
платочком на плече, у двери и тоже молчала, глядя на Сулеймана не то
испуганно, не то с вызовом.
выпустила тот крик, только постояла из упрямства, а потом все же пошла,
медленно, пошатываясь и спотыкаясь о ковер, точно пьяная или лунатичка.
Если бы она знала, как ее голос мучил Сулеймана все эти месяцы, терзал его
душу, не давая покоя ни днем, ни ночью! Как сказано в священном писании:
<Взглянут на того, кого пронзили они>. Да не знала Хуррем о своей власти
над султаном, власти неизъяснимой, беспричинной, и потому еще только
мечтала о такой власти, подкрадывалась к ней осторожно, как к птичке,
которую боишься вспугнуть. Как караван не может идти быстрее, чем он идет
(ибо тогда те, кто едет на верблюдах, опередят души свои и растеряют их в
беспредельностях дорог), так и она могла продвигаться только со скоростью,
зависевшей не от нее, а от него, от человека, которого ненавидела больше
всего на свете и в котором в то же время только и могла искать для себя
избавления и спасения.
нерешительность Сулейман. - Ты ведь не боишься меня?
понимаешь? Хочешь что-нибудь выпить? Здесь есть даже вино. Ты все
понимаешь?
удивлялся сам себе.
арабский, - сказала Хуррем. - Да и персидский.
как она подействует. Стояла над ложем, садиться отказалась, упорно
молчала.
попробовал догадаться султан.
напал на твою землю? - не отставал султан, утаив от Хуррем, что это он
велел хану напасть на польского короля, чтобы тот не пришел на помощь
своему родственнику - королю венгерскому.
снова как бы застыла.
никогда не бывает виноват, ты должна меня простить и спеть мне, чтобы я
услышал твой голос. Прошу тебя.
султана, подергала за золотой крестик, который упрямо не хотела снимать.
Золото на груди. А в груди? Если бы мог этот человек заглянуть ей в грудь!
майюзюне бакилир (еще когда она была одиннадцатилетней, на ее
месяцеликость заглядывались); он алтисинда петек бал олур (у
шестнадцатилетней улей наполняется медом); йирмисинде керван гечер йор
олур, йырми биринде бир кьетюйе кул олур (в двадцать один год становится
рабыней какого-нибудь негодяя)>. Песня была длинной, через все годы, от
одиннадцати до двадцати одного, и опять-таки слишком груба для султанского
уха, но Сулейман слушал с величайшим наслаждением и радостью, совсем для
него не свойственной.
раскалывания>.
которому так завидовал в минуты душевной сумятицы, запела по-персидски,
затем по-азербайджански. Она пела и припевала, смеялась и присмеивалась,






 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Трубников Александр
Трубников Александр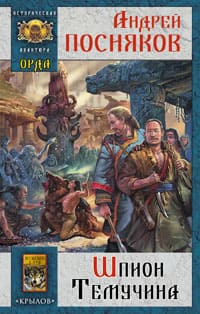 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия