наблюдая за его изумлением. Так незаметно приблизилась на расстояние
опасное и очутилась в объятиях человека, которого ненавидела, но без
которого не могла тут существовать, и когда Сулейман притронулся к ее
пугливому телу, он наполнился до краев тем голосом, что так долго и тяжко
мучил его, и лишь тогда постиг, что отныне без этой девушки ему не жить.
Проникала в него в каждой точке тела, в каждом касании, в каждом объятии,
входила в него, вливалась, вползала ящерицей, змеей, тоской, болью,
восторгом, истомой. Потом она снова пела ему на разных языках, уже и на
родном, что-то рассказывала, журчала, как ручеек, лепетала, как листва под
ветром, а он был далеко от ее торопливых слов и несмелого тела, но близко
к ее голосу, прижимался к тому голосу, точно ребенок, и радовался, и
смеялся, изчезала его суровость, даже кровь невинноубиенных как бы не
пятнала ему рук, а взлетала в небеса и покрывала краснотой месяц, звезды и
тучи над Босфором. Наутро станет он для всех снова султаном,
жестокосердным повелителем без милосердия и жалости, и только ей дано
видеть его иным, только она изменила его хотя бы на одну ночь, стала
могущественнее власти всей империи. Вот сила женщины! Вот ее власть!
скроешь, умеют видеть - и только. Видели, что Хуррем за смехом скрывает
смущение, неуверенность, а может, и отвращение? Если бы! Заметили, что
кизляр-ага ведет смеющуюся рабыню в султанские покои раз, и второй, и
третий. Такого еще не знал никто, кроме Махидевран, - всемогущей,
незаменимой, несравненной.
темнота стала для нее богом? Женским богом, ибо женщина царит только в
темноте, творя истинное чудо, пробуждая в душе жестокого деспота доброту,
нежность, ум, справедливость, простоту и восхищение.
увидела, как спит султан, ибо уснула сама, а он смотрел на нее, молился
аллаху, плакал без слез над своим одиночеством, от которого спасла его эта
дивная девушка, был уже не султан, не завоеватель, а простой странник,
поэт и мыслитель, спрашивал себя: что есть жизнь? Тень птицы на морской
волне? Правечная пыль Зодиака над беспредельностью пустынь? Всхлип времени
в караване вечности? Заблудший вой зверей в чащах? Неминуемость странствий
к смерти?
душа. Ждала, надеялась, сгорала от нетерпения. Хотела плода в себе,
жаждала его, но не как яблоня завязи, не как калина красной грозди из-под
белого цвета, не как лещина ореха из медвяной почки, а горького и
ненавистного. Пусть прорастет, как куколь на пшенице, как рожки на жите,
как ядовитый гриб в лесных чащах. В чащах ее тела горький султанский плод
- и тогда она возвысится надо всеми и над всем. Нет такого намерения,
коего бы она не оправдала. Рабы хоть и ниже тиранов, но зато стоят на
собственных ногах, а тираны - на глиняных. Она победит этого человека,
должна победить во что бы то ни стало! Человеку мало просто жить. Чтобы
жить, нужна отчизна, свобода и песня. Ей из всего осталась только песня от
мамуси, песней утвердилась она в этом жестоком мире, песней должна и
завоевать его.
возвышения надо всеми. Достаточно того, что все, даже всемогущая валиде,
смирились с причудливым нравом этой Рушен, с ее загадочным,
противоестественным для этого места показной сдержанности смехом, который
звучал в запутанных просторах гарема, точно звуки искушения из глубочайших
адских пропастей. Слишком уж много было тех двух султанских платочков,
которые русинка таинственно-колдовским способом получила из рук падишаха,
только дважды появившись пред всесветлые очи повелителя всех суходолов и
вод (ибо небеса принадлежат аллаху всемогущему, пусть царствует вечно и
счастливо!). Но этой дочери шайтана оказалось и этого еще мало. Она
зачаровала пресветлого султана, заворожила его злым колдовством так, что
он не хотел никого ни видеть, ни слышать, только эту Хуррем, только ее
единственную, каждую ночь - и уже сколько ночей подряд! - и не мог
оторваться от своей рабыни до утра, иногда велел приводить ее даже днем,
чего еще никогда не было ни видано, ни слыхано. Чары, чары! Никто не видел
их, маленькая украинка не была поймана за руку, доказательств как будто бы
и не существовало, но ведь было наваждение султана, значит, были и чары.
сгорал от нетерпения и удивлялся терпеливости валиде и ослеплению
Махидевран, которая после смерти своих трех детей была в таком потрясении,
что не замечала даже угрозы гибели для себя самой. Спокойствие сохраняла,
пожалуй, лишь валиде. Встревоженная смертью двух султанских сыновей, могла
ждать (ибо все в руках аллаха), что со дня на день черная смерть заберет и
последнего из Сулеймановых сыновей - Мустафу, поэтому должна была
немедленно позаботиться о том, чтобы трон Османов не остался без
преемника. Приняла весть о неожиданном сближении султана с маленькой
украинкой удовлетворенно, с тайной радостью: если и неправда, что эта
девушка королевского происхождения, то все равно ведь не похожа ни на кого
и достойна занять место рядом с Махидевран, этой дважды обезумевшей
султанской любимицей - сначала от власти, теперь от горя. Но все это
валиде держала в душе глубоко упрятанным, гарему же выказывала
озабоченность тем, что происходило в султанских покоях, и намекала, что
только выжидает подходящего времени проявить против тех двоих свою силу...
<И в тот день, как будут свидетельствовать против них их языки, их руки и
их ноги о том, что они делали>.
Махидевран, накричала на нее за бесконечные слезы, открыла ей глаза на
грозящую опасность, распалила в черкешенке дикую ярость и не стала
удерживать баш-кадуну, когда та стала кричать, что найдет гяурку даже под
султанскими зелеными покрывалами и задушит вот этими руками, не прося
ничьей помощи, не спрашивая ничьего позволения, не страшась никакого
греха.
была находиться ее соперница, не стала ни расспрашивать, ни убеждаться, и
так все ей открылось, как в день Страшного суда: и новое, просторное
жилище Хуррем, и служанки вокруг нее, и пышность убранства едва ли не
такая, как у нее самой, главной султанской жены, - какое коварство, какой
позор и какое злодейство! Всей тяжестью своего раскормленного тела ударила
Махидевран ошарашенную Хуррем, всадила свои острые ногти ей в лицо,
вцепилась в волосы.
базаре! Ты еще будешь со мной тягаться?! Ты еще смеешь?!
был за ней прийти, должен был бы явиться своевременно, чтобы защитить ее,
не допустить этого унижения, которое было, собственно, и унижением самого
султана. Но кизляр-ага предусмотрительно где-то задержался или спрятался.
Служанки бросились врассыпную, ни одна не пришла на помощь Хуррем, были
здесь глазами и свидетелями мстительного гарема, хотели первыми увидеть
униженность той, что замахнулась на наивысшее, засвидетельствовать ее
позор, увидеть ее слезы.
кровавых ссадинах, с косами, из которых были вырваны целые пряди роскошных
еще мгновение назад волос, отскочила от Махидевран, готовая в отпору, к
защите, ко всему самому худшему.
не услышат, чтоб они все оглохли. Была беспомощна, обреченно-покинута, как
жемчужина, нанизанная на нитку, но теперь уже знала, что, как и жемчужина,
сохраняет в себе красоту и притягательность. Была уверена в своей
притягательности и силе - и не для этих женщин, не для гарема, а для той
вершины, к которой здесь все рвутся, а достичь не дано никому, кроме нее.
непоправимому, появился в покое Хуррем как раз вовремя, чтобы спасти ее от
нового, еще более неистового нападения разъяренной, одичавшей, как
тигрица, Махидевран; баш-кадуну силой вытащили из покоя четыре евнуха,
которых Четырехглазый точно выпустил из широких рукавов своего
златотканого халата - так неожиданно посыпались они из-за него на
черкешенку, - а к Хуррем главный евнух обратился, словно бы не замечая, в
каком она состоянии, и напомнил, что пора идти к султану.
служанок, которые не уходили, ждали, надеялись еще на что-то, чтобы было о
чем порассказать гарему, сгоравшему от нетерпения.
оставалась все еще рабыней, пусть и любимой на какое-то время султаном, но
все равно рабыней. - Как ты смела мне такое сказать?
султану, что я недостойна стать перед ним, так как я обычное проданное
мясо, а не человек. Кроме того, лицо мое так исцарапано и на голове моей
столько вырвано волос, что я не смею показаться на глаза его величества.
тут не было и в помине, но по крайней мере мог бы усмехнуться на такие
речи, а он не позволил себе и этого. Когда человек сам роет себе могилу,
что остается? Подтолкнуть его туда, вот и все. А что Хуррем живьем
закапывала себя, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Ибо это
впервые в османских гаремах рабыня отказывалась идти на зов падишаха, да
еще и произнося при этом оскорбительные, высокомерные слова, похваляясь
своим рабством, выставляя его как какую-то наивысшую добродетель. Не могло
быть большего торжества для всего гарема, нежели это ужасающее падение
временной любимицы, заворожившей султана темными чарами, и кизляр-ага, как
верный слуга Баб-ус-сааде, как необходимейшая принадлежность гарема, мигом
кинулся к покоям падишаха, чтобы принести оттуда повеление о конце
взбунтовавшейся рабыни и о возвеличении всех тех, кто ждал этого конца:


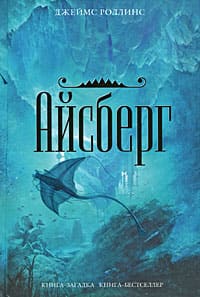
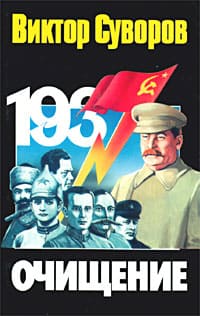
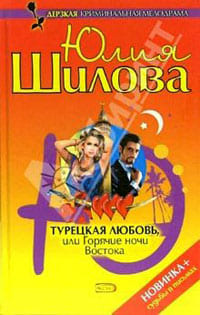
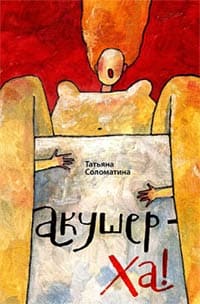
 Куликов Роман
Куликов Роман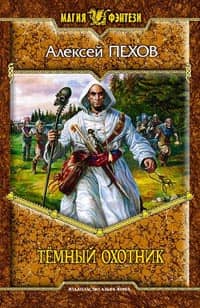 Пехов Алексей
Пехов Алексей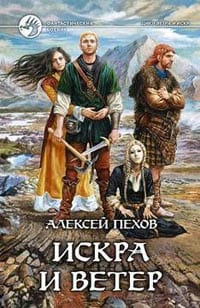 Пехов Алексей
Пехов Алексей Контровский Владимир
Контровский Владимир Андреев Николай
Андреев Николай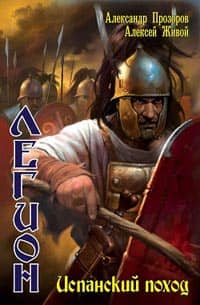 Прозоров Александр
Прозоров Александр