валиде, Махидевран, султанских сестер, всего гарема, до последних
водоносов и уборщиков нечистот.
молча выслушал главного евнуха, переспросил, в самом ли деле так сильно
пострадала Хуррем, потом сказал:
мгновенно броситься исполнять высокое повеление, разинул рот, точно хотел
что-то сказать, султан повторил:
туда, откуда вышел с таким преждевременным торжеством, - был слишком
опытным гаремным слугой, чтобы не постичь, что идет уже не к рабыне, а к
повелительнице, пусть еще и не признанной всеми, но ему уже объявленной, и
счастье, что он первый узнает об этом, теперь-то уже не ошибется в своем
поведении ни за что. Был сплошная учтивость перед Хуррем, кланялся ей,
точно султанше, просил и от имени падишаха, и от своего. Она немного
привела себя в порядок, пошла в покои Сулеймана, шла с сухими глазами,
решительная, исполненная ненависти ко всему вокруг, а перед самой ложницей
султана сломалась, заныло у нее в душе, брызнули из глаз обильные слезы.
Мамочка родная, что они со мною делают! Пусти меня в детство, пусти в свои
песни, в сказки, в свой дорогой голос, пусти в раскаянье, пусти хоть в
смерть! Просилась в детство, а была ведь еще ребенком. Предстала перед
султаном вся в слезах, окровавленная, униженная. Сулейман, забыв про
кизляр-агу, бросился к Хуррем, целовал ее слезы и раны, гладил волосы,
спрашивал, кто осмелился поднять на нее руку, кто этот преступник, пусть
скажет, пусть только назовет имя.
кивнул кизляр-аге - привести. Не просил, не передавал, чтобы пришла, не
стал тратить хотя бы слово на свою баш-кадуну, на султаншу, на мать своих
детей, на ту, что дала ему наследника. Жестокий кивок - и все.
вершину, теперь должен был другую спустить до низин. Немного побаивался
осатанелой черкешенки, боялся, что закапризничает и не захочет идти к
своему повелителю, но Махидевран только и ждала, когда явится пред глаза
Сулеймана. Ибо какая женщина пренебрежет случаем высказать мужчине все,
что она о нем думает, - и не важно при этом, кто этот мужчина, самый
убогий юрюк из Анатолии или сам великий султан.
Махидевран явилась перед Сулейманом разгневанная, но гордая тем, что не
была когда-то продана ему в гарем, а привезена братьями в дар будущему
преемнику престола, в знак преданности Османам, завоевавшим весь видимый
мир. Не сдерживала своей ярости, из горла у нее вырывался вместе с
турецкими словами дикий черкесский клекот, что было бы, может, даже
прекрасно, если бы произносились при этом слова справедливые и милостивые,
а не пронизанные ненавистью.
беззащитной Хуррем.
она еще не воздала этой дочери ада все положенное. Ибо она, Махидевран,
баш-кадуна, только она может быть первой в услужении его величеству, и все
жены, а прежде всего рабыни, должны ей уступать и считать ее своею
госпожой.
Повелительницей Века, которую еще совсем недавно ставил надо всеми, без
которой не мог дышать. Смотрел и не видел идола, коему поклонялся. Стояла
перед ним тупая, чванливая, раскормленная черкешенка, вся увешанная
драгоценными побрякушками, щедро даренными им за каждый поцелуй, за каждый
взмах брови, а рядом с нею - полная жизни и искристого ума девушка,
которая точно вырвалась из ада, опалившего ее волосы, коснувшегося, может,
и души, но отпустившего на волю, чтобы попала она в рай, ибо рай только
для таких, как она. В гареме была точно вызов всем тем пышнотелым,
безмерной красоты одалискам, вроде бы и обыкновенная лицом, с детским,
чуть вздернутым носиком, такая маленькая вся, что уместилась бы на ладони
у своего безжалостного сторожа - кизляр-аги, но мужественная, дерзкая,
полная непостижимого очарования и невероятного ума. Сулейман прекрасно
знал, что такое дебри гарема. Там все ненадежно, непрочно,
встревоженно-пугливо, все как бы раздвоены; одни подчиняются судьбе и
плывут на этом проклятом корабле тяжелого прозябания, что везет их к
старости и смерти, другие (их совсем мало, единицы) начинают ожесточенную
борьбу за султанское ложе, не задумываясь над тем, что может принести им
это ложе. А эта девушка не присоединилась ни к одним, ни к другим, даже
понятия не имела, что случаем обретенное султанское ложе принесет ей
совсем уж непредвиденное - власть, какая никому и не снилась. Какая же это
для него неожиданность и радость в то же время: встретить в гареме, среди
этого попранного <мяса для удовольствий>, среди отупевших молодых самок,
затурканных наложниц, запуганных орудий утех и наслаждений, существо
мыслящее, человека, который равен тебе упорством ума и жаждой знаний, а
волей и характером превышает, ибо за тобой, кроме происхождения, нет
ничего, а она выбилась из небытия, из рабства, из безнадежного унижения на
самый верх только благодаря собственным силам, одаренности души, мужеству
и вере в свое предназначение на земле.
пытался. Знал лишь одно: больше не захочет видеть эту черкешенку нигде и
никогда. Всплыли в памяти слова: <А тех, непокорности которых вы боитесь,
увещевайте, и покидайте их на ложах, и ударяйте их...>
Махидевран гневно двинулась на него, он повторил уже с нетерпением в
голосе: - Уйди прочь!
одновременно поняли: вместе навсегда, до конца, неразлучно. Сулейман
устало обрадовался этому открытию, а Хуррем испугалась. С ужасом
почувствовала, что ненависть ее куда-то запропастилась, исчезла, а на ее
место выступало искушение и демоны завладевали душой неумолимо и навеки,
навеки! Разве она этого хотела, разве к этому стремилась! Хотела лишь
успокоить, усыпить вампира, а потом ударить, одолеть, превзойти! Чтобы
отомстить за все! За мамусю и за отца, и за Рогатин, и за всю свою землю,
которую эти пришельцы, эти грабители и людоловы норовили заковать в
железный ошейник, как тех несчастных девушек, что плыли с нею через море и
проданы на рабском торге в Стамбуле в вечную неволю. И хотя сама она не
испытала ошейника, все равно ощущала его жестокое железо на своей нежной
шее, он угрожал ей постоянно, нависал над всей ее жизнью, как извечное
проклятие. Только ли потому, что родилась на такой щедрой и богатой земле,
очутившейся на распутье племен и всей истории?
грабителей, взращивать ее упорно и тщательно, и делала это без понуждения
со стороны, без чьей-либо помощи, и уже должна была бы сорвать плод, когда
неожиданно сломалась. И с ужасом ощутила в себе уже не ненависть к этому
высокому грустному человеку, похожему на викария Скарбского из Рогатина, а
- страшно даже и сказать - нечто вроде начала расположения, может, и
любви! Ветер горьких воспоминаний еще и поныне нес ее в отчизну, а любовь
уже отклоняла, как молодое деревце, назад. И давно уже перестала она быть
Настасей, а стала Хуррем. И теперь осталась одна с этим человеком - одна
во всем свете. Шагнула к Сулейману, и он протянул к ней руки. Упала ему на
грудь, содрогалась в рыданиях. Да упадет твоя тень на меня. Падала на всю
землю, пусть упадет и на меня.
христианским богом. Тут же, где грешила, должна принять чужую веру. Так
легко. Только поднять указательный палец правой руки, шехадет пермаги -
палец исповедания. Добродетельная блудница. Постепенно вползали в душу
порок за пороком, страсть за страстью, а она и не замечала. Углублялась в
плотскую жизнь, пока не утонула в ней. <Если Ты поклонишься мне, то все
будет Твое>. Какой обман!
даль времен, невыразительный и горький, как ночные одинокие рыдания. И
только в глубине души тоскливо звучала песня от мамуси, все от мамуси:
<Ой, глибокий колодязю, боюсь, щоб не впала. Полюбила невiрного - тепер я
пропала...>
Правда, в последнее время они вели себя смирно, но все равно теперь уже
знала: она в их руках, и нет ей спасения. Шла к султану каждую ночь,
умирала и рождалась в его объятиях, а он, ясно было по всему, только и
видел жизнь, что в ее глазах, в ее лице, в ее пугливо-обольстительном
теле, удивлялся теперь безмерно, почему так долго не мог отгадать (а кто
подсказал бы, кто?) причину своей душевной тоски, еще больше дивился тому,
как могло ему поначалу показаться некрасивым это единственное в мире
личико с прекрасным, упрямо вздернутым носиком, с очами, что светили ему
звездами в самой непроглядной тьме, с дивным сиянием, от которого бы
засветилась даже самая мрачная душа. Воистину, красота - в глазах того,
кто любит.
визирями, дважды в неделю, выполняя обязательный ритуал, показывался
придворным и послам, каждую пятницу молился в Айя-Софии, изредка ездил на
Ок-Мейдан метать стрелы, присматривался к новым стройкам Стамбула,
одаривал вельмож златоткаными кафтанами и землями, карал и миловал и вновь






 Суворов Виктор
Суворов Виктор Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Шилова Юлия
Шилова Юлия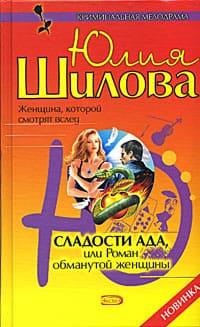 Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор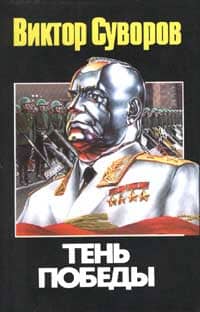 Суворов Виктор
Суворов Виктор