и вновь возвращался к своей Хуррем, без которой не мог и дохнуть,
возвращался в ночи ее голоса, ее песен, ее смеха и ее тела, подобного
которому еще не знал мир. Всякий раз новое, непостижимое, неизъяснимое,
страшное в своей соблазнительности и неисчерпаемости, это тело
обезволивало султана, в нем все содрогалось от одного лишь прикосновения к
Хуррем, и он с ужасом думал о том, что утром надо бросать эту
девочку-женщину ради женщины иной - державы, властной и немилосердной, а
тем временем эта беленькая девчушка будет отдана на подсматривания,
оговоры и наговоры безжалостного, завистливого гарема. У него перед
глазами стояло постоянно одно и то же: валиде с темными властными устами,
злые султанские сестры, хищная Махидевран, обленившиеся одалиски, толстые
коварные евнухи, молчаливый кизляр-ага, безнадежно располовиненный между
султаном и его матерью, а посреди всего этого - она, Хуррем, с
мальчишеской фигуркой, в которой ничего женского, лишь пышные волосы и
тугие полушария грудей, так широко расставленных, что между ними могла бы
улечься султанова голова.
улечься голова ее царственного сына, и боялась этого, так как уже
убедилась, что рабыня с Украины - самая опасная соперница не только всем
одалискам, не только глупой Махидевран с ее холеным телом, а даже ей,
недостижимой в своем величии и власти повелительнице гарема и своего
единственного сына. Когда султан, возвратившись из великого похода,
печальный и хмурый, несмотря на блистательную победу, ударился в разгул,
чтоб разогнать тоску, валиде радовалась этой темной вспышке мужественности
в Сулеймане. Когда он увлекся маленькой украинкой-роксоланкой,
повелительница гарема даже тайком способствовала этому увлечению, надеясь,
может, и на пополнение древа Османов, ибо дети от Махидевран оказались
недолговечными и еще неизвестно было, долго ли проживет единственный
оставшийся в живых ее сын и наследник трона Мустафа. Да и нельзя было
ставить под угрозу всемогущественный род Османов, имея лишь одного
наследника, - валиде знала это по собственному горькому опыту: ведь
двадцать шесть лет не знала спокойной минуты, оберегая жизнь своего сына,
которому отец его не сумел, не смог и не захотел дать ни единого брата.
Валиде верила в дух и силу степей, на краю которых сама родилась, готова
была приветствовать рождение сына этой роксоланкой, согласна была
поставить ее на место кума-хатун, то есть второй жены султана, но никогда
на место первой, баш-кадуны, на место Махидевран. Ибо Махидевран - это
только тело, тупое и глупое, которое легко пихнуть куда угодно, а Хуррем -
это разум, непокоренный, своевольный, как те беспредельные степи, с
которыми уже вон сколько лет безнадежно бьется воинственный народ самой
Хафсы. Еще когда ничего и не намечалось, когда Хуррем была бесконечно
далека от царственного внимания Сулеймана, валиде, подсознательно ощущая
угрозу, скрывавшуюся в маленькой украинке, незаметно, но упорно руководила
ее воспитанием. По обычаю, установленному испокон века, гаремниц на целый
день сбивали в кучу, чтобы были на глазах, чтобы не дать им укрыться ни
мыслью, ни настроением, не дозволить никому столь желанного уединения, ибо
наедине с собой можно и надумать что-либо греховное, а то и злое, а так -
пустоголовость, лень, обжорство, похвальба телесными прелестями и в то же
время ревнивая слежка, взаимное наблюдение, питающиеся неисчерпаемыми
источниками зависти, этого страшнейшего из людских пороков. Хуррем, словно
бы и подчиняясь заведенному обычаю, охотно напевая и смеясь в гурьбе
одалисок, в то же время норовила оторваться от них, когда они надоедали
своею пустотой, отвоевывала для себя каждую свободную минутку, тратя ее на
обогащение своего ума. Другие объедались, спали, думали о драгоценностях,
нарядах и украшениях, хватались за каждый способ сделать свои тела еще
соблазнительнее, а эта, с ароматным, почти мальчишеским телом, с запахом
диких степей в своих фантастически золотых волосах, заботилась лишь о
своем уме, выстраивала его, как мост, по которому можно перейти самую
широкую реку, как мечеть, в коей можно произносить самые сокровенные
слова, как небесный свод, под которым голос доносится до ушей самого
аллаха. Для гарема такая рабыня была невиданной, подозрительной и опасной.
Поэтому валиде приставила к Хуррем старую мудрую турчанку, которая могла
научить маленькую украинку простым знаниям, грубым песням, всему тому, что
звучало на подлом каба тюркче*, таком далеком, если и не враждебном,
султану Сулейману, воспитанному на изысканной персидской поэзии, на
арабском мудрословии. Валиде наперед догадывалась, как резанут эти
простонародные песенки, переданные Хуррем доброй уста-хатун, утонченный
слух повелителя, еще с детства писавшего подражания - назире - на
блестящие касиды и газели Ахмеда Паши, великого поэта, сумевшего стать
любимцем двух могущественных султанов - Мехмеда Фатиха и Баязида
Справедливого.
султана неведомо чем. Одна ночь, даже десять ночей с султаном - в этом еще
ничего не было угрожающего, все ждали конца, валиде верила, что Сулейману
в конце концов надоест маленькая рабыня с ее песенками, одинаково
варварскими и на ее непостижимом языке, и на каба тюркче, еще непоколебимо
верила валиде, что постная плоть неискушенной в любовных утехах украинки
не даст наслаждения султану и тот неминуемо вернется к своей сладкой
Махидевран или к другим пышнотелым одалискам. Вычерпывается и самый
глубокий колодец. Разве не исчерпалось ее собственное тело так, что султан
Селим навсегда отчурался от нее, как только она подарила ему сына и дочь?
своего сына маленькой украинкой. Но мудрости ее нанесен был страшный и
непредвиденный удар. Спокойствие рассеялось, как дым от степного костра.
Ее великий сын с его тонкой душой, с непревзойденной мудростью, с
непреклонной волей был сломлен, как тонкая камышинка бурей, побежден
коварством, превышавшим всякую мудрость, брошен в униженность грязной
страсти, не щадящей в мужчине ни изысканности, ни блеска, ни обыкновенной
порядочности. Маленькая Хуррем возвышалась над гаремом, над валиде, над
самим султаном, над всей империей, и никто этого еще не понимал, кроме
мудрой валиде, никто не мог помочь, не мог раскрыть глаза султану, указать
на угрозу и посоветовать, как спастись.
спокойно сообщила ей о том, что происходит в гареме. И этим еще ускорила
неизбежность победы Хуррем.
забыл о детях, которых она с такой щедростью дарила ему, не хотел
вспоминать, что она султанша, мать маленького шах-заде Мустафы,
единственного наследника его престола. Он прогнал Махидевран с глаз, как
презреннейшую рабыню, он не хотел видеть ее не только в своей ложнице, но
и в гареме, и не только в Баб-ус-сааде, но и в Стамбуле: Махидевран была
оторвана от сына, вывезена на остров в Мармаре, в старый летний серай, в
одиночное заточение, вечную ссылку. А ее покой, самый большой в гареме, о
трех окнах, с мраморным фонтаном посредине, весь в дорогих коврах, отдали
маленькой Хуррем, не спрашивая ни согласия, ни совета валиде, да еще и
передали Хуррем всех бывших служанок Махидевран, словно бы эта роксоланка
с ее бесполезным (может, и бесплодным!) телом стала уже султаншей, дала
новую поросль всемогущественному роду падишаха!
отчаяньем малоречивого кизляр-агу, черный евнух спокойно бормотал: <Не
следует совать палки в колеса судьбы>. Хуррем все же оставалась во власти
валиде. Ночи принадлежали султану, дни - повелительнице гарема. Она звала
Хуррем в свои покои, сидела, кутаясь в дорогие меха, на белых коврах,
пробовала выведать, какими чарами завладела маленькая украинка ее сыном, а
девчонка беззаботно смеялась: <Какие чары? Кто завладел? Что вы, ваше
величество?> Валиде держала ее у себя часами, угощала сладостями, велела
приносить книги, чтобы читать вместе с Хуррем, хотела проникнуть если и не
в душу ее, то хотя бы на закраины этого чужого тела: что ему по вкусу, что
оно любит - тепло, ласковое прикосновение, красивую одежду, боится ли
холода, ежится ли от ветра, вздрагивает ли от крика, грохота ворот, рева
диких зверей в подземельях серая.
собой непробивную завесу беззаботности, отделывалась от любопытства Хафсы
песнями и песенками, была неуловима, как дух, неприступна, как скалистый
остров посреди разбушевавшегося моря. Так, словно бы этой
шестнадцатилетней девочке уже давно открылась мудрость человеческой
неприступности, благодаря которой каждый может жить на свете, сохраняя
собственную личность. Мы существуем до тех пор, пока мы, объединяясь
неустанно со всем, что нас окружает, в то же время отделены от него
оболочкой своего тела, духом своим и неповторимостью. Мы - скалистые
острова посреди безграничного, беспредельного моря жизни, острова, которые
за твердыми берегами скрывают нежную, уязвимую зелень, журчанье ручьев,
мягкую землю, какую не уступают никому, иначе размоют ее воды, развеют
ветры, расхватают алчные стихии. Все живое должно укрываться. Улитка - в
раковине, вепрь - под щетиной, за острыми клыками, человек - за силой, за
мужеством, за умом, за смехом, за презрением. В этой девочке неудержимый
смех скрывал в себе горькое презрение ко всему. Ах, если бы умел это
увидеть ее ослепленный сын! Незаметно вздыхая, валиде отпускала Хуррем.
<Иди, девочка. Достойно приготовься к ночи. День принадлежит мужчинам.
Женщинам принадлежит ночь. Помни об этом>.
выплакаться до наступления ночи вволю. Плакала, чтобы никто не видел,
чтобы глаза не краснели, чтобы даже слезы не катились из глаз. О проклятая
земля, где и поплакать по-людски не дадут: вездесущие глаза заметят,
высмотрят, донесут султану, и тот прогонит ее от себя, ибо для утех нужна


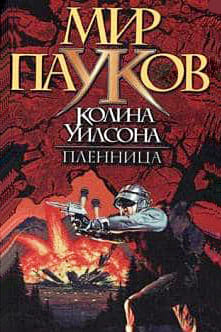
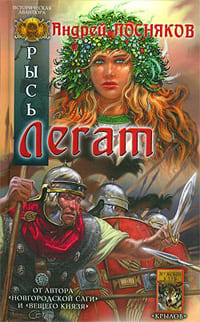


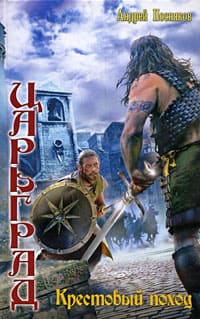 Посняков Андрей
Посняков Андрей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия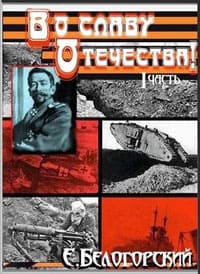 Белогорский Евгений
Белогорский Евгений Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия