что поздняя ночь, и не может он немедленно проявить все величие своего
великодушия к Хуррем и вынужден ждать утра, чтобы сообщить валиде и
кизляр-аге, сообщить всему гарему, всему Стамбулу и всему миру, как дорога
ему эта маленькая девочка, от которой он теперь ждет сына, наследника и
которую он сделает султаншей, царицей своей души и царицей всех душ его
империи, но до утра было еще далеко, до сына - еще дальше, поэтому он
должен был довольствоваться одними словами, и он щедро лил их из
неисчерпаемых источников своей памяти, с которой пока еще не могла
состязаться даже цепкая, как глициния, память Хуррем: <Все равно приходи,
все равно будь той, какая ты есть, если хочешь - будь неверной,
огнепоклонницей, идолопоклонницей, если хочешь - будь хоть тысячу раз
раскаявшейся, если хочешь - будь сто раз нарушительницей раскаяния, эти
врата не врата безнадежности, какая ты есть, такой и приходи>.
из Юнуса Эмре, слишком простого для султанов поэта, но такого уместного
для данного мгновения:
шелковистым персям и ощущал ее бессмертие. Она спала, точно корабль на
тихих водах, полный жизни, огня и скрытого движения. Словно змея, она
никогда не потела, сухой огонь бил из нее даже спящей, обжигал Сулеймана,
обращал в уголь, в пепел. Наконец-то нашел он женщину, которая убедила
его, что существует на свете нечто более важное, более ценное, нечто выше
его самого во всей его недосягаемости. Что же? Она сама. Только она. Была
для него утолением жажды, забытьем и воскрешением, давала высвобождение от
всего, похожее на сладкую смерть. Тогда он забывал даже о себе самом,
освобождался от себя, знал лишь одно: без этой женщины не сможет жить, без
любви к ней, без ее любви мир утратит всю свою прелесть, все краски свои,
самое же страшное - потеряет свое грядущее. Ибо любовь, как искусство,
охватывает и то, что реально существует, и то, что должно когда-то
наступить.
поймет, не с кем ему поделиться. Разве что с Ибрагимом, с которым давно
уже не уединялся, увлекшись ночами с Хуррем, а его оставив для утех с
молодою женой.
нести в себе султанское семя, Сулейман приказал, чтобы ее никто не трогал
в гареме, даровал ей отдых и одиночество на несколько дней и ночей, сам же
обратился с усердием, могущим показаться чрезмерным, к делам
государственным, затем, возобновив давний свой обычай, заперся в покоях
Фатиха с любимцем своим Ибрагимом. У них не часто были такие затяжные
разлуки, новая встреча всякий раз щедро орошалась вином, выпив же первые
чаши, они разыгрывали на два голоса иляхи дервишей ордена руфаи. Так было
и на этот раз. Сулейман, лукаво поглядывая на Ибрагима из-за края золотой
чаши, начал то, что в их игре принадлежало ему:
твердо, распределение это еще больше укрепилось после вступления Сулеймана
на престол, в сущности, Ибрагим своим положением Сулейманова любимца и
наперсника обязан был тому обстоятельству, что никогда не давал воли своей
врожденной наглости, умел сдерживаться, к тому же делал это незаметно,
всегда уступая своему повелителю первое место и всячески склонял того к
мысли, будто они во всем равны и никто из них в этих ночных беседах не
имеет никаких преимуществ.
скабрезной поэмы Джафара Челеби или из хмельных стихов Ильяса Ревани, но
начинать должен был султан, а если уж не начинать, то хотя бы намеком
показать Ибрагиму, чего он от него ждет.
руками Ибрагим, искренне обиженный таким упреком.
глаз Сулейман, склоняя Ибрагима к простецкой игривости, в которой находил
отдых от постоянного напряжения власти.
султана рабыней-роксоланкой и тревожился по поводу этого увлечения, может,
даже больше, чем валиде, ибо это могло коснуться не только его дальнейшей
судьбы, но и самой его жизни. Знает ли уже султан о том, что роксоланка
подарена для его гарема именно им, Ибрагимом? А если еще не знает, то
когда, и от кого, и как узнает? Ладно, если увлечение пройдет так же
необъяснимо, как и началось, и Сулейман забудет о маленькой рабыне и не
станет доискиваться, откуда она взялась в Баб-ус-сааде. А если случится
непредвиденное? Если этот непостижимый человек приблизит Хуррем к себе
надолго, сделает ее кадуной? До сих пор Ибрагим был в руках валиде, теперь
зависел и от Хуррем. Вдруг она вспомнит, как была куплена на Бедестане,
как привел ее Ибрагим в свою ложницу, как, уже отдавая в султанский гарем,
пожелал увидеть ее молодое девственное тело? Как немилосердно ревнив
Сулейман во всем, что касается его женщин, Ибрагим знал еще со времен
Манисы. Однажды, увидев, как молодой мерин пытается залезть на кобылу,
шах-заде с удивлением спросил у конюха: это случайно или у мерина в самом
деле может что-то быть с кобылой.
неспособен в этом деле заменить мерина.
должен был разбираться в таких вещах лучше урожденного мусульманина.
если уж в нее что-нибудь западало, то крепко и надолго. Он стал
расспрашивать своего воспитателя Касим-пашу, докапываться, как
кастрировали рабов в Мысре, откуда происходил этот нечеловеческий обычай
при дворах персидских шахов, сельджукских султанов и его предшественников
из рода Османов, а потом велел провести осмотр всех евнухов и безжалостно
лишить их всего мужского, чтобы не осталось и следа. Когда Касим-паша
осторожно намекнул, что не все выдержат столь тяжелое испытание, особенно
евнухи пожилые, то есть самые преданные и опытные, испытанные в службе,
Сулейман только покривился:
при дворе. Не грозили теперь султанским женам ничем, даже малую нужду не
имели чем справлять и вынуждены были носить в складках своих тюрбанов
серебряные трубочки для этой цели.
узнал о происхождении своей возлюбленной и о ночах, которые она провела в
его доме на Ат-Мейдане. Спасение было разве в том, что рабыня надоест
султану прежде, чем он станет интересоваться, как она к нему попала, или
же в том - и на это надо было надеяться более всего, - что Ибрагима не
выдадут ни валиде, ни сама Хуррем: одна - чтобы не быть в соучастии с
греком, другая - чтобы навсегда остаться перед султаном вне всяких
подозрений. Но это были все же одни только надежды, а как будет на самом
деле, никто не мог знать наперед, даже сам Ибрагим, несмотря на его
проницательность и остроту ума. Утешало то, что султан не изменил пока
своего отношения к любимцу, значит, еще не знал ничего. Иначе бы не
простил. И если не повелел бы немедленно уничтожить неверного друга, то
пред царственные очи свои не пустил бы никогда и ни за что - это уж
наверное.
терпелось похвалиться ее красотой и прелестями, но положение султана не
позволяло сделать этого даже перед Ибрагимом, и Сулейман призывал к
откровенности своего любимца: пусть тоже хвалит свою Кисайю, и в тех
восхвалениях отразится, как в зеркале, увлеченность султана. Для этого
достаточно было бы Ибрагиму прочитать строки из Ахмеда Паши: <Локон,
кокетничающий на твоей щеке, о друг мой, прекрасный павлин, распускающий


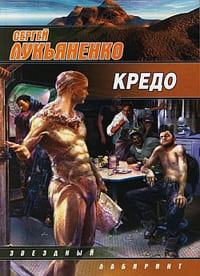

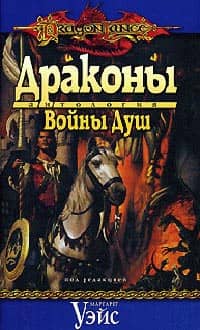

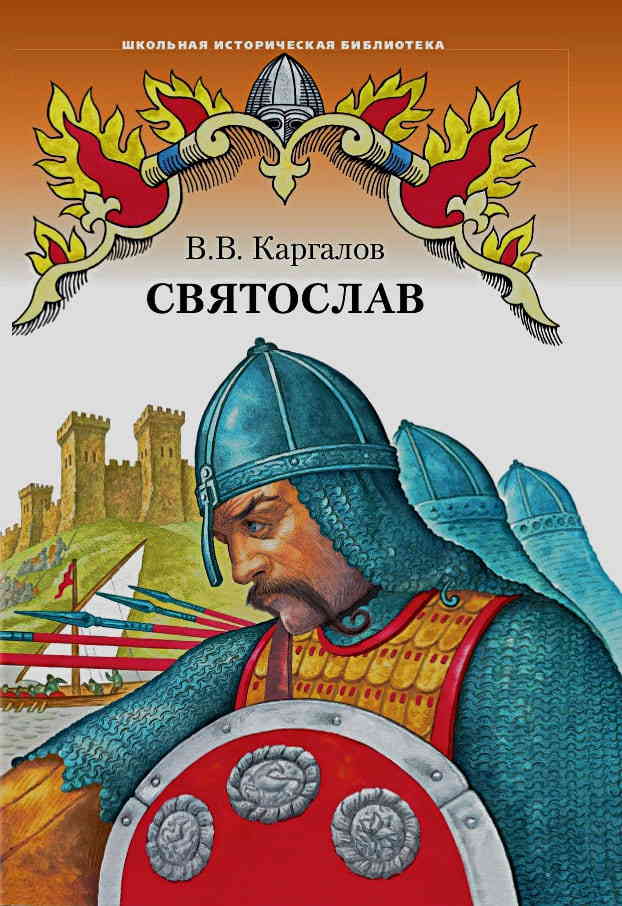 Каргалов Вадим
Каргалов Вадим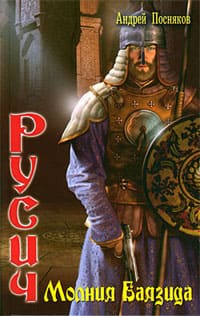 Посняков Андрей
Посняков Андрей Березин Федор
Березин Федор Андреев Николай
Андреев Николай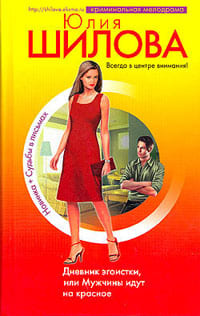 Шилова Юлия
Шилова Юлия Эриксон Стивен
Эриксон Стивен