Хуррем о всемогущем аллахе. Семьдесят две тысячи раз на день заглядывает
аллах в нутро человеку, в душу и в сердце, чтоб узнать, чем они наполнены,
не осквернены ли.
бы вы только знали, как она чиста!
непостижимого. От кара-кура, злого духа, который наваливается ночью, во
сне, и душит человека, помогает лишь железо под подушкой, и сама валиде
подарила Хуррем маленький ятаган, так густо усыпанный самоцветами, что он
уже был и не оружием, а только драгоценностью. Старую бабку-Ал, которая
подстерегает рожениц, вырывает у них из груди легкие и бросает в море,
можно было отогнать, держа у кровати иголку и повторяя сто тринадцатую
суру Корана <о защите от зла дующих на узлы, от зла завистника, когда он
завидовал!>.
ты познала рабство!
То, что было смесью крови и темноты, что было страстью и стоном, теперь
становилось душой, билось в ней, рвалось на волю, словно хотело ее темных
стонов, несло обещание муки и боли, но она с радостью ждала их, ибо знала,
что только мучительнейшие боли высвободят ее дух и дадут ощущение полной
независимости от всего. В те мгновения она будет зависеть от природы, от
простейшего, почти животного бытия, а не от людей, - и в этом найдет
наивное высшее блаженство и счастье, которых нечего ждать в том мире, где
женщина рождается для клетки, как посаженный в нее дикий зверь.
началось и вокруг нее закудахтали темные фигуры баб-повитух, была
спокойной и радостной, дикие спазмы боли, словно разрывающие тело,
приносили злое утешение. Даже в те бесконечные часы мук она никак не могла
связать невыносимую боль с осознанием великой неизбежности новой жизни,
которую должна была дать миру. Как нечто постороннее, как чужое восприняла
слабый крик младенца и почтительный шепот повитух: <Эркечоджук> - мальчик.
В ней все замерло, исчезло ее тело, вместо него воцарилась бездонная
пустота. Жизнь начала возвращаться лишь через некоторое время несмелым
журчаньем первых талых вод по весне. Где-то зародилась маленькая,
пугливая, как тело маленькой Настаси, капелька, упала, робко прислушалась,
долго ждала, не случится ли чего-либо, потом позвала к себе еще одну, чуть
побольше, та прыгнула вниз уже отважнее, посмеялась над страхами первой и
незамедлительно позвала к себе третью, капельки запрыгали наперегонки,
зажурчали тоненькой струйкой, потом ручейком, потоком. Жизнь! А что поток?
Разве не связаны между собой невидимо и неуловимо, не слиты в единый поток
капельки так же, как слита она теперь со своим дитятком, с первенцем, с
сыном!
преемника престола, ударил гулко, радостно, воодушевленно, и пришло еще
одно знание: связана теперь, слита навеки и с Сулейманом. Дитя между ними,
сын - точно капелька жизни, и уже не разорвать, не оторвать, не разлить
слитого.
бил победоносно, ибо это была ее победа. Она не просто выжила - она
победила!
ею, уже побежден!
и несокрушимостью души, и непокоренностью сердца.
кривило сморщенное личико. Словно бы ощущало на себе железный ошейник,
рожденное без свадьбы, без радостей, в тревоге и выжидании беды со всех
сторон. <Чи ти мене, моя мати, в церкву не носила, що ти менi, моя мати,
долi не впросила?>
семнадцатилетнее тело было полно жизни, хотела ту жизнь перелить и в сына,
сама ухаживала за ним, не подпуская и близко служанок, напевала над ним
родные песни: пусть слышит эти слова - единственное, что осталось
неотобранным у его матери. Странно звучали эти колыбельные, каких тут
никто не мог понять: <Закувала зозуленька на хатi, на розi, заплакала
дiвчинонька в сiнях на порозi. Ой, кувала зозуленька, тепер не чувати. Ой,
де я ся не родила, мушу привикати>.
глотая слезы, выпевала над ним свою свадьбу, которой не было и никогда не
будет, пела и за отца, и за маму, за молодого и за молодую, за бояр и
дружек, за выкуп и венчанье, за расплетание косы и за девичий веночек, и,
так напевая, она вновь почувствовала свою силу, свое всемогущество, свое
бессмертие. Бессмертие ее кричало у нее на руках, и она целовала его и,
склонившись над ним, смеялась радостно и с вызовом.
наступала зима, а в небе зловеще громыхали громы, на земле расплодилось
необычное множество гадов, насекомых и червей, в водах плавала дохлая
рыба, птицы умирали на лету, по улицам города среди людей мрачно слонялась
безмолвная смерть, косила тысячи ежедневно, хмурые чауши в пропитанных
дегтем хирках носили и носили в черных табутах несчастных мертвецов на
кладбища, тысячи псов метались по опустевшим улицам столицы, как зловещие
вестники гибели, дармоеды из султанских дворцов затаились в тревоге,
гарем, хоть и обособленный от всего мира, казалось бы, самым надежным
образом, тоже жил выжиданием, робким и настороженным: проникнет ли за его
врата и стены невидимая и неслышная смерть, схватит ли и тут свои жертвы,
и кто станет ее жертвами, и заберет ли она это немощное дитя, отняв
одновременно и могущество у маленькой султанши, ибо ненавистной была сама
мысль о том, что одна из них - и не самая первая, и не самая заметная -
внезапно стала выше их всех.
ее дитятка. То для других, прежде всего для мужчин. Это они живут с мыслью
о смерти, постоянной и неизбежной, для них она бывает пышной или никакой,
а то и позорной. Женщины не умирают. Они просто исчезают, как птицы, цветы
или облачка под солнцем. После себя оставляют детей, жизнь, целый мир.
Всегда носят этот мир в себе, наполнены им и переполнены, потому и
всемогущи. Но открывается это лишь немногим, и открывается не само по
себе, а в муках, ограничениях, в нечеловеческом напряжении. Разве она за
свои муки не заслужила счастья?
на пурпурной самаркандской бумаге, с подвешенной золотой печатью. В
фирмане провозглашалась высокая воля повелителя о том, что сын от любимой
жены Хуррем назван именем великого Фатиха Мехмедом, Хуррем отныне должна
именоваться султаншей Хасеки, то есть самой ближайшей и самой дорогой для
падишаха, милой его сердцу. Присланы были также дары для султанши -
дорогие ткани, и <озера любви> из огромных розовых и пурпурных жемчужин, и
золотые монеты для новорожденного.
кучами золотых монет. <Йаши узун олса!> - <Ах, если бы его жизнь была
долгой!> Хасеки Хуррем соглашалась: ах, если бы, если бы! Жила теперь как
богородица, к которой идут добрые волхвы с дарами. А поскольку дары
передавали ей чернокожие евнухи, то это еще больше увеличивало сходство с
той древней священной историей, от которой когда-то у маленькой Настаси
перехватывало дыхание.
султанше в надежде на внимание, благосклонность и, если понадобится,
защиту. Были привезены из-за высоких гор, широких рек и беспредельных
пустынь тонкие шали и еще более тонкие щелка, сохранившие в каждой складке
дикий дух непостижимых просторов. Нежные соболя и невиданный мех морской
выдры, поднесенные русским послом Иваном Морозовым, дохнули на нее снегами
и морозами отчизны. Сыпались на нее дорогие украшения Востока,
драгоценнейшие ткани, посуда, украшения чуть ли не из всех городов Европы,
ароматные масла, мази - все необходимое для поддержания красоты, для ее
лелеянья, золотые клетки с райскими птицами, ручные гепарды и чучела
огромных крокодилов, ковры и арфы с золотыми струнами; теперь у Хуррем
должна была быть своя сокровищница для сохранения всех этих богатств, и
кизляр-ага должен был определить для нее хазнедар-уста - честную старую
женщину, которая бы вела большое и непростое хозяйство первой жены
султана, собственно первой женщины державы, если не считать валиде.
защищала и сберегала свою душу, прикрывая ее золотым крестиком. Теперь
должна была уступить и душу, по крайней мере для посторонних глаз. <Где
мои дети, там и душа>, - сказала Хуррем султанской матери, попросив
поставить ее перед кадием Стамбула в Айя-Софии. Подняла указательный палец
правой руки, палец исповедания, и приняла ислам. Бил на дворе большой
султанский барабан, радостно извещая о приобщении к исламу еще одной души,
Хасеки поклонилась кадию, и кадий приложил сложенные лодочкой ладони к
груди в знак высокого почтения к ее величеству султанше - так встречала
она своего повелителя, который уже возвращался из затяжного кровавого
похода, торопился в столицу, снова без пышной свиты, без триумфа, почти
тайком, сопровождаемый грозным ропотом недовольного войска и зеленоватыми
трупами, которыми устилали ему путь пораженные страшной чумой его воины от
Родоса до самых Врат Блаженства Стамбульского серая.
возлюбленной Хасеки за сына - невиданное платье из золотой парчи, расшитое
по вороту, рукавам, подолу и переду бриллиантовыми и рубиновыми стежками,
украшенное на месте шейной застежки огромным изумрудом, привезенным из
Александрии. Тот изумруд на тридцать четыре диргемы стоил сорок два кесе,
то есть девятьсот восемьдесят селимов золотом, или восемьдесят тысяч
дукатов. А все платье Хасеки стоило сто тысяч дукатов, сумма, какую в то




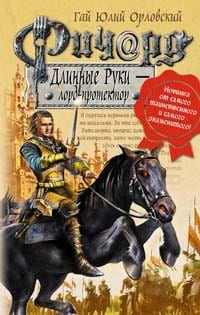

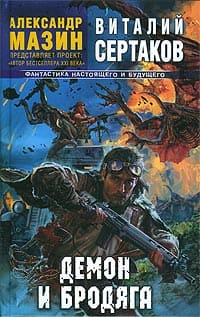 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Корнев Павел
Корнев Павел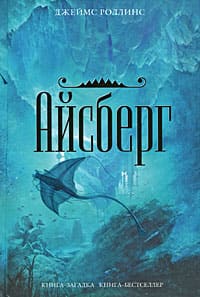 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс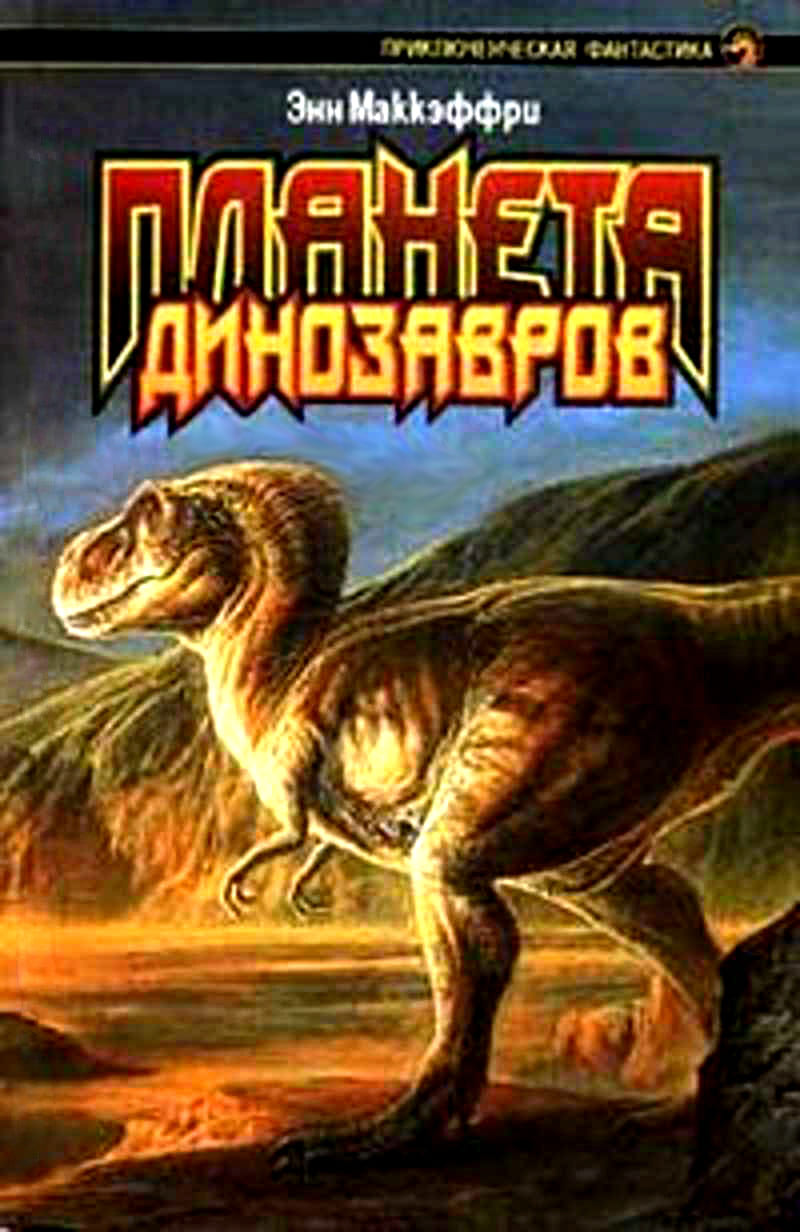 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн Емилина Ника
Емилина Ника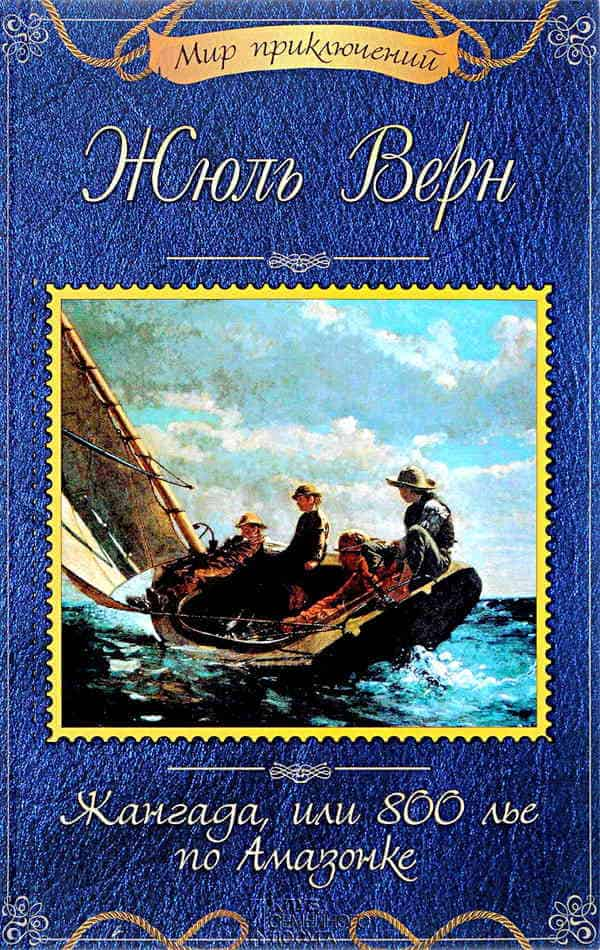 Жюль Верн
Жюль Верн