Ибрагиму приблизиться к ней в своей искренности ни на пядь.
нежели предвидел грек. Держали его в руках и не хотели выпускать без
подходящего случая. Но и не выдавали султану. Пока не выдавали, и надо
было пользоваться этим.
преимущество перед всеми приближенными, но все равно он видел: душа
Сулеймана остается для него таинственной и закрытой, как и для всех
остальных. Никто не знал, что скажет султан сегодня, что велит завтра,
кого возвысит, кого накажет. Он смеялся, когда Ибрагим нашел трех пузатых
карликов, подстриг им бороды, как у Ахмед-паши, одел их в шутовские
<визирские> халаты, дал деревянные сабли и заставил рубиться перед
Сулейманом, сопровождая султана в приморские сады. А что из того?
Ахмед-паша продолжал оскорблять всех на диване, а Ибрагим должен был
сидеть молча, ибо был всего лишь главным сокольничим. К тому же еще
принадлежал к эджнеми-чужакам, как презрительно называл их Пири
Махмед-паша, однажды неожиданно заявивший, что в диване осталось только
два чистокровных османца - сам султан и он, его великий визирь. До сих пор
еще не было случая, чтобы у султанов великими визирями были люди чужой
крови. Теперь такая угроза надвигалась неотвратимо, и в значительной
степени виновен был в этом сам Пири Мехмед. Ибо разве же не он когда-то
добился у султана Селима, чтобы визирем стал Мустафа-паша? И разве не он
первым заметил храбрость Ферхад-паши, и не по его ли совету Ахмед-пашу
поставили румелийским беглербегом? Сулейман унаследовал этих чужаков от
своего отца вместе с Пири Мехмедом. Османец Касим-паша впал в глубокую
старость и вынужден был оставить диван, теперь пойдет на отдых и он,
Мехмед-паша, и воцарятся здесь эти боснийцы или болгары, отуречившиеся
христиане, вероломные и подозрительные в своей ненасытности. Не жди
верности от того, кто уже раз предал. Эти люди только суетятся у подножия
могучей каменной стены, возведенной Османами. Подняться же на нее не дано
никому из них. Дерутся за то, чтобы стать ближе всех, - только и всего.
Султан тоже это знает, поэтому с такой скукой на лице слушает грызню на
диване.
довериться и доверялся в своих державных делах, кому он всякий раз
рассказывал о стычках на диване и о недовольстве янычар, которые не могут
утихомириться после Родоса, ибо для них победа без добычи хуже поражения,
и о своих заботах с властью, которая чем безграничнее, тем безграничнее
зависимость от нее того, кто ею пользуется. Механизм власти осложняется и
расширяется даже тогда, когда кажется, будто ты ничем этому не
способствуешь. Две тысячи хавашей в одном только султанском дворце
Топкапы. Сорок тысяч войска капукули - тридцать тысяч янычарской пехоты и
десять тысяч конных спахиев. Десятки главных писарей-перване - и сотни
писарей обыкновенных - мунши и языджи, множество дефтердаров только в
самом Стамбуле, - ведь кроме четырех главных налогов надо еще собирать
девяносто три налога и повинности. Существует даже должность
реис-ус-савахиль - смотритель державы, - то есть глава всех улаков -
доносчиков. Повсюду нужны мудрые люди. Для державы недостаточно одних
только воинов. Завоеванная земля тогда лишь приносит пользу, когда дает
доходы. Взять их можно только умом. А где набрать столько мудрых людей?
дождем поля и сады, - заглядывала ему в суровые глаза Хуррем.
волос. В прорезях просторного шелкового халата розовели чулки с золотой
каймой, загадочно светились аметистовые застежки на алых подвязках. Шелка,
парча, венецианские флаконы, индийские безделушки, низенькие диваны,
круглые разноцветные подушки, белые ковры, белые шкуры, благоухания,
умерший аромат цветов, воздух как в теплице, дьяволы прячутся в каждой
щели, в каждом завитке букв тарихов*, начертанных на стекле. Узкая белая
рука, точно защищаясь, шаловливо наставлена на Сулеймана, молодое
прекрасное тело изгибается движением змеи, заметившей опасность.
держава!
два капиджии с оголенными саблями. Капиджиев сторожат четыре верных
дильсиза. За дильсизами следят шестнадцать еще более верных акинджиев. Где
конец подозрениям? Кому верить? То же и на султанской кухне. То же и в
гареме. В целой державе. Со времени Белграда невозможно найти замену
старому Мехмеду-паше. Кого ставить?
я не жена великого повелителя? Я должна кое-что знать в этой державе.
Взгляните на эти меха, мой повелитель. Это соболя. Взгляните - они как
будто и не убиты, будто живые, дышат морозами, волей, лесным духом, в
каждой ворсинке трепещет жизнь. Это подарок московского посла.
дарами Великого московского князя и поднести вашей рабыне эти редкостные
меха, посол должен был раздать подарки чаушам, которые поздравили его с
приездом, слугам, которые принесли для него от вашего величества и
великого визиря пищу, привратникам и слугам великого визиря, страже,
посыльным, конюшим, драгоманам - Юнус-бею, Махмуд-бею, Мурад-бею,
Мехмед-бею.
сопровождении пятисот всадников. Целое войско! Я впустил его в Стамбул
лишь с двумя десятками слуг, а остальных оставил на том берегу Богазичи.
Довольно с нас и собственного величия.
повелитель?
хоть еще не умею как следует разбирать драгоценные письмена, но кое-что
уже понимаю. Однажды я прочитала такое. Как-то шейх Салахеддин нанял для
возведения садовой стены мастеров-турок. Руми сказал, что тут нужны
мастера-греки. Турок нужно звать для разрушения.
вам известны лучше чем кому-либо. Может, о таких и писал великий поэт.
мысль посоветоваться с валиде. Чтобы оказать матери особую честь, султан
навестил ее в собственном ее покое, где все было ему знакомо: белые ковры,
низенькие столики, суры Корана, начертанные золотом на разноцветных
стеклах окон, курильницы и светильники. Коран на драгоценной подставке,
мраморный фонтан, но не белый, как у Хуррем, а зеленый, цвета морской
волны летом. У фонтана, небрежно брошенная на пол, лежала большая белая
шкура незнакомого зверя.
чашу с шербетом, сказала валиде, - вы же знаете, что женщины умеют только
транжирить деньги, а не копить их. Ваша Хуррем доказывает это каждый день.
как вы назвали ее баш-кадуной.
никто не хотел уступить. Но султан пришел за советом, к тому же он был
сыном этой властной женщины.
валиде, - кого бы из моих приближенных вы назвали самым преданным?
которую султан добровольно попал к ней. А может, ждала, что Сулейман не
выдержит и повторит свой вопрос. Однако он тоже был сыном своей матери и,
единожды поддавшись, больше не имел намерения этого делать. Наконец темные
уста раскрылись, и с них слетело одно-единственное слово:
Хуррем назвали одного и того же человека, о котором уже столько времени
упорно думал Сулейман. <Таите свои слова или открывайте... Поистине он
знает про то, что в груди!>
престарелый Андреа Грити, отец Луиджи. В один день из простого
стамбульского купца он стал сыном дожа. К богатству и роскоши прибавилось


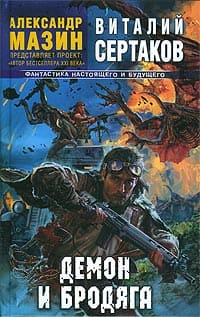

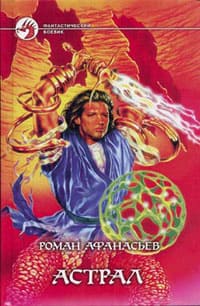

 Каменистый Артем
Каменистый Артем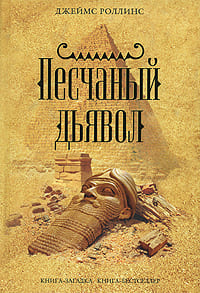 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Суворов Виктор
Суворов Виктор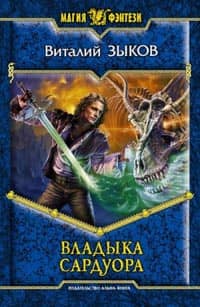 Зыков Виталий
Зыков Виталий Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна