ему фразу на языке, показавшемся Ибрагиму знакомым, но непонятным.
же языке, отводя руку со светильником и приглядываясь к ней теперь не
только с любопытством, но и с удивлением.
говорила ничего больше, с некоторым даже пренебрежением сморщила свой
хорошенький носик и заслонилась белой рукой от светильника, который Грити
вновь приблизил на расстояние слишком неприятное.
обращаясь у Ибрагиму.
не знаем о ней. Может, она из богатой семьи.
исповедующих женщин. Довольно грубый и непристойный для столь нежных уст.
создание. Ты, вонючий барышник, - крикнул он Синам-аге, - что за товар нам
подсовываешь? Где купил эту беспутницу? Из-под какого просмердевшего
развратника ее вытащил?
как утренний цветок, искупанный в росе. Она так же нетронута, как...
Сколько за нее?
Купец должен называть двойную цену, чтобы дойти до истинной не торопясь,
поторговавшись всласть и вволю, иначе как можно сберечь себя для служения
делу, на котором держится мир?
приключения Грити, - она обошлась мне, как свидетельствует Синам-ага,
всего лишь в пятьсот дукатов. Ясное дело, старый негодник обманывает нас,
как он это всегда делает, - ведь за такие деньги можно купить трех
черкешенок из княжеского рода, но пусть уж будет так.
заслонил собой девушку от Грити и турка, шагнул к ней, она засмеялась ему
еще более дерзко и с еще большим вызовом, чем перед тем Луиджи. Смеялась
ему в лицо неудержимо, отчаянно, безнадежно, стряхивала на него волны
своих буйных волос, полыхавших золотом неведомо и каким, райским или
адским, не отступала, не боялась, выпрямилась, невысокая, стройная,
откинула голову на длинной нежной шее, рассыпала меж холодных каменных
стен Бедестана звонкое серебро прекрасного голоса: <Ха-ха-ха!>
души, заставил себя улыбнуться в ответ на смех загадочной чужестранки,
которая не плакала, как все рабыни, не стонала, не ломала в отчаянье рук,
а смеялась, точно издеваясь не только над ним, но и над всем этим жестоким
миром, стремившимся покорить ее, сломать, уничтожить. Ибрагим заговорил с
ней на ломаном языке - смеси из славянских слов, выученных от султана
Сулеймана, хочет ли она к нему, именно к нему, а не к кому-либо другому.
Девушка умолкла на мгновение. Словно бы даже посмотрела на Ибрагима
пристальнее. Хотела ли бы? Еще может кто-то спрашивать в этой земле,
хотела ли бы она? Ха-ха-ха!
повторил, что заплатит за нее тысячу дукатов, предупредил, чтобы сегодня
же к вечеру она была в его доме и чтобы ей не было причинено ни малейшего
вреда. Потом поблагодарил Грити.
венецианец. - Эта Роксолана, как я ее называю, пожалуй, действительно
нечто такое... - он покрутил пальцами у себя перед глазами. - Как опытный
купец, могу сказать вам, что товар приобретает ценность также от цены,
какая за него уплачена.
таким же опозоренным, как тогда, когда его, маленького мальчика, продавали
на рабском торге в Измире. Правда, теперь покупал он, но разве не все
равно? Есть рабы, которые покупают, и рабы, которых покупают. Но все равно
рабы. И спасения нет никакого. Он пытался спастись нарядами, роскошью,
которой окружал себя благодаря щедрости Сулеймана, считал, что этим
облегчает себе жизнь, упорно уговаривал себя, что жизнь, в конце концов, и
не может быть тяжелой, раз она называется жизнь. А зачем? Пусть тот старый
мошенник Синам-ага обманывает людей, ибо таково его призвание на этой
земле, пусть покупает и продает все на свете Луиджи Грити, поскольку он
купец, но зачем же тогда убеждать себя в том, во что никогда не поверишь?
вся плавала в слезах. Она шла, бездомная сирота, несчастная пленница,
проданная и проклятая, под чужим небом, прочищенным ветрами, безжалостным
и бледным, как холодные глаза стрелков-лучников. Здесь не было дождя, он
лил, как слезы, в ее душе да еще там, куда не было возврата, в таком
далеком, что сердце вырывалось от отчаянья из груди, недосягаемом, навеки
утраченном Рогатине.
налетело на нее, надвинулось, и голос дождя звучал в ее сердце как
невозместимая горькая утрата. Ничего и никогда в жизни не увидишь лучше и
милее, не переживешь уже того, что пережила когда-то.
руку, а тут обман, ненастоящесть падали под ноги, летали в воздухе,
выступали из стен, толпились в просмердевших нечистотами улочках, сновали
неслышно, как клубки шерсти, а то вдруг прорывались диким мяуканьем - то
ли кошачьим, то ли дьявольским. Но дьяволами должны были быть люди, а
мяукали кошки, тысячи кошек повсюду, кошек, кошечек, изнеженных и
избалованных, безнаказанных и неприкосновенных, ибо кошка была любимым
животным их пророка.
степью, за реками и лесами? Может, и не за ее собственные грехи - она еще
не успела их нажить, - а за грехи давно умерших, несчастных, проклятых,
заблудших? Нелепость, нелепость! Неужели и теперь должна пугать сама себя,
как делал это ее татусь в Рогатине? Батюшка Лисовский в пьяном бреду
запугивал грехами и грозил карами всем без исключения, он цеплял грехи ко
всему сущему, даже к деревьям и камням, не признавая их лишь за самим
собой, ибо не мог отличать в своих поступках грешного от праведного,
обреченный на постоянное опьянение если не от молитв в церкви Святого
духа, то от пива и горилки рогатинских пивоваров Квасницы, Якубовича и
Роздольского.
у нее в душе в таком беспорядке, что даже строгий учитель Иероним
Скарбский, к которому посылал ее Гаврило Лисовский в ожидании чудес от
своей единственной дочери, не смог навести в той душе хоть какой-то
порядок, а, наоборот, еще больше взбудоражил все то, что до времени было
приглушено, жило только в зародыше, еще и не проклевываясь к жизни. Жертва
темных сил, безвременная мученица (как будто для мук человеку непременно
должно быть определено какое-то время!), лишенная свободы, которую если
еще и сберегла, то разве что глубоко в сердце и в своей неукротимости.
Щедро одаренная волей к жизни, она не имела теперь даже такой свободы,
какой обладала всякая паршивая кошка на улицах Стамбула.
так же, как теперь ее самое, бесследно исчез несчастный отец в пылающем
Рогатине, пережила собственную смерть или какое-то подобие смерти, чтобы
теперь воскреснуть, как на старенькой иконе в отцовской церкви Святого
духа, но не в таинственном сиянии святости, не для поклонений вопящей от
восторга, одуревшей от чуда толпы, а для прозябания понурого, почти
животного. Единственное, что она могла, - это возвращаться без конца
памятью в родной Рогатин, к крутым тропкам со щекочущим спорышом по
сторонам, к густому малиннику за раскидистой грушей, которая зимой грустно
чернела среди снегов, а летом накрывала зеленым шатром чуть ли не всю
усадьбу Лисовских. И дом свой видела с крутых улиц Стамбула так явственно,
словно стояла перед ним, дом из толстых сосновых бревен, просторный, с
окнами на высокий ольшаник, за которым внизу бежит Львовская дорога,
упираясь возле вала под горой в Львовские ворота со старым перекидным
мостом через ров, а во рву буйство лопухов, лягушки блаженствуют в вечных
дождевых лужах, змей и ужей скапливается такое множество, что вот-вот
поползут они на Рогатин. Отец Гаврило Лисовский, коему не раз приходилось
ночевать во рву и которого змеи не трогали, словно считая своим, предрекал
для Рогатина кару иную, столь же тяжелую, как для библейских Содома и
Гоморры, потому что после этих двух третьим городом, который бог хотел
убрать с лица земли, был именно Рогатин, спасенный случайно, но от кары не
избавленный. Как ни пугал своих прихожан пьяненький попик, приношений и
пожертвований на церковь было слишком мало, чтобы держаться батюшке
Лисовскому среди первых граждан Рогатина, а потому на усадьбе вечно
хрюкали огромные свиньи, хищные, как лесные вепри, прожорливые, чавкающие,
визгливые. Мама Александра с утра до ночи пекла ячменные коржи, ломала их
еще горячими, замешивала в деревянных бадьях пойло, носила, надрываясь, в



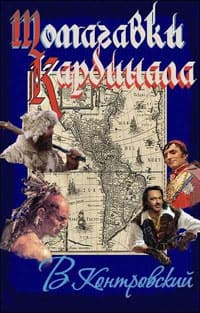


 Акунин Борис
Акунин Борис Лукин Евгений
Лукин Евгений Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Вронский Константин
Вронский Константин Самойлова Елена
Самойлова Елена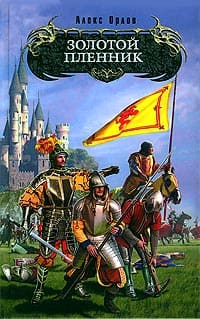 Орлов Алекс
Орлов Алекс