принцессе, которую сделал своей возлюбленной женой, укрыв ее под именем
Гюльбахар, и, может, эта любовь подвигла его перенять от императоров,
соответственно приспосабливая и меняя, чуть ли не весь придворный
церемониал, всю чрезмерность и расточительство их быта, описанного еще
императором Константином Багрянородным.
восстанавливать руины, а велел соорудить поблизости свой дворец, достойный
великого завоевателя этой столицы мира. Место было выбрано напротив одних
из врат Царьграда, по которым во время осады била самая большая султанская
пушка. Врата назвали Топкапы - Ворота пушки, с них название перешло и на
дворцы, их так и называли с тех пор - Топкапы. Строил Фатих, затем сын его
Баязид, затем султан Селим. Сулейман также не имел намерения отставать от
своих предков. Топкапы были уже не просто строениями, нагромождением
роскошных залов, бесконечных покоев, запутанных переходов, крепких
каменных оград и ворот, - это был целый мир, причудливый, сложный,
жестокий и безжалостный, мир, в котором должен был господствовать лишь
один человек, остальные угнетались, унижались, ползали и жестоко
расплачивались за свое сытое, позлащенное рабство со всеми, кто оставался
вне пределов Топкапы. Священную персону султана оберегали гулями, огланы,
муфреды. От них пряталась смерть, ангелы, допрашивающие человека после
кончины, убегали от этих молодцов-чужеземцев. Они ужасали своим видом
Мункара и действиями - Некира*. Во время селямликов эсаул-кор ехал впереди
султанской кареты и разгонял народ криками и палкой. Сто двадцать огланов,
вооруженных золотыми саблями, сопровождали султана и без умолку ревели:
<Хасса!> (<Сторонись!>) Замыкали шествие мрачные чубдары и дурбаши с
длинными дубинками в руках, как бы воплощение наказаний, которые щедро и
безустанно раздает султанская власть. Близость к персоне падишаха хоть и
таила в себе постоянную опасность, в то же время преисполняла этих людей
неимоверным тщеславием, последний писец - языджи - из Топкапы чувствовал
себя могущественнее любого санджакбега из отдаленной провинции, а любой
охранник султанских сафьянцев, наматывальщик тюрбанов или прислуживающий в
спальне - хатжиб - излучал всемогущество, едва ли не такое же, как великий
визирь или члены султанского дивана.
свое место, загадочным мог быть только для чужеземцев, но не для своих,
роли были расписаны наперед, навсегда и навеки, и никто не мог нарушить
сложившегося, отступить от упрочившегося хоть на шаг, ибо нарушителей
карали немедленно и безжалостно.
высшей властью и волей. Непрошеные, никому не известные, они поначалу были
встречены враждебно, презрительно, ибо пришли в Топкапы не по велению и
согласию султана, которому одному только и могло принадлежать тут
наивысшее право, присланы были силой иной, неведомой, собственно
несуществующей силой, ибо женщина, даже если она становится султаншей, для
сынов ислама никогда не может служить законом.
нечто непродолжительное, временное, порожденное прихотью, и это нечто
должно так же быстро исчезнуть благодаря какой-нибудь новой непостижимой
прихоти колдуньи-султанши, которой падишах почему-то угождал. Но проходили
дни и недели, а Гасан-ага не исчезал, его люди слонялись по Топкапы,
толклись на султанской кухне, ротозейничали у ворот, надоедали конюшим -
имрахорам, чтобы те учили их ездить верхом, словно бы намеревались из
простых пехотур-янычар выскочить сразу в паши. Со временем в их кошельках
зазвенело золото, и звенело оно все ощутимее и внушительнее, словно бы
платили им за безделье, придерживаясь при этом какой-то немыслимой таксы:
чем больше безделье, тем щедрее оно оплачено. Временные приобретали
постоянство, которому позавидовать могли бы даже те, кто стоял у самой
персоны падишаха. Прежде просто были нежеланны, а теперь пугали своей
силой. Их загадочность становилась все более угрожающей, поэтому каждый на
всякий случай заискивал перед ними. Вчерашние пловоеды, несчастная
безотцовщина, юноши, обреченные стать кровавым мясом для султанских битв,
еще вчера жестокие воины, которым суждена лишь повсеместная ненависть,
янычары Гасан-аги даже растерялись от того предупредительного внимания, с
каким неожиданно накинулась на них челядь Топкапы. Янычарская привычка к
примитивному насыщению, к торопливым грабежам и кратковременным утехам
толкала их к неразборчивости, порой к мелочности, они считали себя
счастливыми, получив лишний кусок жирной баранины, побелее муки для халвы,
выбрав себе стрелы в султанской оружейне, поменяв истоптанную обувь на
новую в дворцовых хранилищах. Но со временем, удовлетворив первые
потребности и поняв, что для этого не нужно затрачивать никаких усилий
(тогда как янычарская жизнь требовала всегда платы наивысшей - самой
жизнью), они стали пристальнее приглядываться к этому странному миру и
благодаря своему природному уму и обостренной постоянными опасностями
наблюдательности вскоре постигли, что наивысшая ценность, которой владеют
все эти люди, не яства и напитки, не одежда и оружие, даже не
драгоценности, а знание государственных тайн, слухов и новостей. Слухи
плыли к придворным могучей рекой, плыли скрыто, непостижимо, тут знали
все, что станет известным только завтра или через год, известно было им и
то, что никогда не выйдет за ворота Топкапы, вести были тут кладом,
оружием, товаром, знание о минувшем тут пренебрежительно отдавали
мудрецам, ибо ни мудрецы, ни прошлое никогда не угрожают хлебу насущному,
зато все, что касалось дня нынешнего и намерений на грядущее, - все
сведения, все подслушанное, тайны выкраденные, купленные, исторгнутые
жестокими пытками, порожденные слепым случаем или капризом властителей, -
собиралось торопливо, алчно, жадно, сберегалось жестоко и неутомимо. Но
если алчность и подозрительность людская не имеет границ, то нет границ и
человеческому тщеславию. Если кто-то чем-то обладает, он не удержится от
соблазна похвалиться. Даже скупой, прячущий золото в подземельях, хвастает
своей скупостью, так что уж говорить о тех, наибольшее богатство которых
(и к тому же единственное) составляли осведомленность, слухи, новости?
Осведомленность рвалась из этих людей, как загадочные глубинные силы,
вызывающие землетрясения. Слухи разлетались, как вспугнутые птицы. Новости
старели быстрее, чем женщины. Топкапы полнились шепотом, приглушенными
голосами, намеками, часто достаточно было взгляда, жеста, кивка пальцем,
чтобы передать нечто важное; открытая или закрытая дверь, чуть отодвинутая
штора, тень за решеткой окна, еле уловимый запах, чье-то невидимое
присутствие или затянувшееся отсутствие - все могло свидетельствовать о
том или ином, все служило знаком для посвященных, сообщением для
поверенных, предупреждением или предостережением для своих. Поэтому и
пытались стать тут посвященными, доверенными, своими. Янычары Гасан-аги,
хоть и были чужими для хавашей Топкапы, оказались на перекрестках всех
таинственных вестей, слухов и знаний и в короткое время стали обладателями
этих сокровищ, не прилагая к этому, собственно, никаких усилий.
на свете, безмерно страдает, когда ему чего-то недостает, но еще больше
страдает, если не может тем или иным способом избавиться от добытого с
таким трудом. Растранжирить деньги, перепортить вина и яства, похвалиться
только ему известными тайнами, промотать попусту всю свою жизнь. Надо ли
удивляться, что развращенные толпы султанских придворных, различными
способами добывая известия и новости, спешили поскорее поделиться ими,
похвастаться своей осведомленностью, и часто получалось, что уст для
тайных шепотов было намного больше, чем алчных ушей для выслушивания их,
так как же должны были обрадоваться все эти сплетники и болтуны, заметив
появление свежих людей, еще не испорченных, не пресыщенных запретной
осведомленностью, еще не впутанных в неизбежные интриги и коварства. На
людей Гасан-аги валилось все подряд: кто украл барана, в чей гарем
прокрался молодой ходжа, кого тайно утопили в Босфоре, какой посол прибыл,
а какой еще в дороге, сколько потратил Коджа Синан на строительство джамии
Селима и сколько еще потратит, где взбунтовались кочевники-юрюки, какой
величины рубин послала султану мать французского короля Франциска, чтобы
Сулейман освободил его из плена. Привыкшие к послушанию своим агам,
янычары несли эти вести Гасану. Тот, переполненный до краев этим
неожиданным добром, шел к султанше и передавал ей все. Не избалованная
ничьим вниманием, кроме внимания султана, не привыкшая к выслушиванию
такого множества вестей за эти несколько лет гаремной жизни с ее суровой
замкнутостью, отвыкшая от тревог, величия и мелочности мира, Роксолана
поначалу даже растерялась от такого наплыва вестей, среди которых были и
такие, о которых не знал даже султан, а потом ужаснулась своему прежнему
неведению, своему равнодушию, своему пятилетнему забытью. Забыла обо всем
на свете, жила только для себя, заботилась о собственном освобождении и
вознесении. Освобождалась и возносилась - и все равно пребывала в
угрожающей близости к насилию и смерти, неведомой, но вечной опасности то
от валиде, то от великого визиря Ибрагима, то от янычар, то от великого
муфтия, то от самого презренного гаремного евнуха. Трех вещей жаждет
прежде всего человек. Первое: жить. Всегда, хоть на день или на час больше
другого, но жить, жить! Второе: быть счастливым. Счастье можно найти даже
в страдании, если это страдание от любви или ненависти, можно быть
счастливым и умирая, но когда умираешь борясь, превозмогая, побеждая.
Любовь может стать величайшим счастьем, но как же много нужно еще для
этого, ибо не одной только любовью жив человек. Поэтому неизбежно
выплывает третья предпосылка человеческого существования: знания. Даже
ребенок не хочет жить в незнании. Жить, чтобы искать истину, и в этом -
счастье. Может ли быть истина в любви и достаточно ли одной только любви
для утоления ненасытной человеческой жажды знаний? Тогда можно было бы
спросить иначе: может ли волна быть морем?
кизляр-агой Ибрагимом, нависавшим над ним как воплощение подозрительности





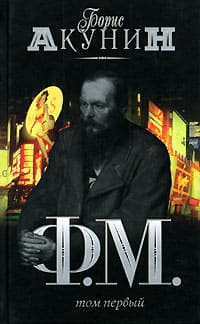
 Ильин Андрей
Ильин Андрей Глуховский Дмитрий
Глуховский Дмитрий Громыко Ольга
Громыко Ольга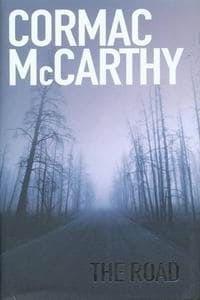 Маккарти Кормак
Маккарти Кормак Орлов Алекс
Орлов Алекс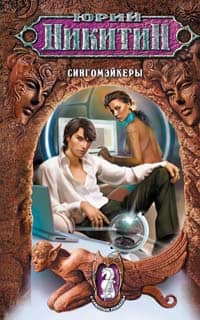 Никитин Юрий
Никитин Юрий