свинарник тем ненасытным тварям, они мгновенно пожирали принесенное,
грызли бадьи, прогрызали доски загородок, выставляли хищные рыла,
высовывали длинные тонкие розовые языки, заходились в неистовом визге.
Ада, которым отец пугал всех вокруг, Настася не боялась еще с тех пор, как
только стала понимать слова взрослых людей - видела тот ад ежедневно, жила
в нем вместе с несчастной своей матерью.
сгоняли тысячи голов скота, овец, свиней, коз, а покупать съезжался люд из
Галича, Львова, Сандомира, из самой Литвы и чуть ли не из Киева. Батюшку
Лисовского в шутку называл тот ярмарочный люд <отцом свинопаственным>. Но
разве мог он бояться каких-то там слов, если сам умел пугать людей словами
торжественными, загадочными, темными! Задирал бородку, раздувал ноздри,
грозился сухоньким пальчиком, похожим на кривую веточку: <Но своемненно
паче же реши, не зная сущаго положеннаго разума>. Мама Настаси не очень и
тяготилась своим каторжным трудом. Тоненькая и маленькая, вытаскивала из
печи черные казаны, месила колючие ячневики, обваривала по локти руки в
кипятке, и все это со смехом, в непостижимой радости, с припевками то
веселыми, то грустными, например: <Ой, кувала зозуленька, тепер не чувати:
ой, де я ся не родила, мушу привикати...> А отец Лисовский все грозился
неминуемостью кары для Рогатина и рогатинцев, хотя его маленькая
Александра и не была местной, а родилась за Прутом, в селе Княж-Двор, где
росли неведомые рогатинцам тысячелетние тисы, деревья вечные и оттого
словно бы какие-то угрюмые и нечеловеческие в своей мощи и красоте. А все
дети якобы рождались там от заезжих князей, которые, охотясь в окрестных
пущах, влюблялись в княжедворских девчат и оставляли по себе сладкие
воспоминания той кратковременной любви. Князей уже давно не было, а
воспоминания оставались, и Александра, чтобы досадить своему безродному
попику, называла себя княжной да еще дразнила его тем, что якобы и Настася
не его дочь, поскольку за девять месяцев до ее рождения по зимней пороше
наскочил на рогатинские леса с кавалькадой охотников сам король польский
Зигмунт, и попалась тогда ему на глаза она, Александра княжедворская, и
понравилась она королю, и... <Королевна! - радостно восклицал пан-отец
Лисовский, прижимая к себе маленькую дочку. - Моя доченька - королевна,
прошу я вас! Она колыхалась у меня в серебряной колыбельке, а ездить будет
в серебряном возке!> Серебряная колыбелька, по которой выбиты цветы и
травы, существовала лишь в пьяном воображении Гаврила Лисовского,
старенькая же деревянная люлька, в которой когда-то перебирала ножками
Настася, валялась среди хлама в темной кладовушке, но ведь намного веселее
и легче жить с легендой, особенно в таком городе, как Рогатин, который и
сам возник из легенды. Говаривали, якобы когда-то Галицкий князь Ярослав
Осмомысл охотился тут в древних пущах с дружиной воинов своих и
полюбовницей Насткой Чагровой, женщиной красивой и дико своенравной.
Настка, погнавшись за каким-то зверем, заблудилась в лесу и, совсем уже
потеряв надежду на спасение, вдруг заметила гигантского оленя-рогача,
невиданной огненной масти. Олень тряхнул рогами, топнул ногой, словно
приглашая за собой женщину, медленно побежал в чащу, лишь высокие рога
обозначали его путь, и Настка погнала за ним своего коня. Так и вывел
олень ее к стойбищу Ярославову, упала она, заплаканная и измученная, в
объятия князя, а олень исчез, как дух святой. На том месте Ярослав велел
заложить церковь Святого духа, а впоследствии вокруг церкви возник город,
названный Рогатином в честь того рогатого спасителя оленя. Может, и дочку
свою Лисовский назвал Настасей в память о той далекой Настке, княжеской
полюбовнице, хоть та Настка была счастливой только в легенде, а на самом
деле смерть приняла мученическую - на костре, в который бросили ее
жестокие галицкие бояре.
маленькую женушку и обрек ее на вечную каторгу с прожорливыми свиньями.
Гордился дочкой, мечтал обучить ее высшим наукам, хотя сам едва умел
прочитать наизусть две молитвы и не мог отличить псалтырь от требника, и
готов был даже отказаться от отцовства в пользу едва ли не самого короля
польского - только бы все знали, кто растет в доме батюшки Лисовского и в
этом благословенном и проклятом Рогатине! Да и сам Рогатин, как и его
беспутный сын Гаврило Лисовский, тоже стоял над столетиями своего
происхождения и существования какой-то словно бы раздвоенный: с одной
стороны - роскошная княжеская легенда о чудесном спасении заблудшей души,
а с другой - почти содомская легенда о Чертовой горе, которая высится на
восток от Рогатина, точно мрачный курган, насыпанный нечеловеческой силой
на равнине. Потому что рогатинцы хоть и построили свой город вокруг церкви
Святого духа, но, видимо помня о греховной связи князя Осмомысла с
распутной Насткой, сами пустились в распутство столь тяжелое по тем давним
временам, что бог разгневался, призвал к себе черта и велел ему засыпать
грешный город землей, чтобы и следа никакого не осталось. Черт набрал
полную бесовскую свою торбу черной-пречерной земли и понес к Рогатину. Но
то ли заблудился, то ли лень его одолела, но землю он ту не донес до
Рогатина - как раз в это время прокукарекал петух, нечистый испугался,
бросил землю, где был, и исчез. На том месте выросла Чертова гора. И
теперь каждую весну детвора бегала туда рвать горицвет весенний, руту-мяту
и синяк красный, и как упрямо ни перепахивал тропинки Кузьма Смыкайло,
поле которого было под Чертовой горой, их протаптывали вновь и вновь в тех
же местах, где были они испокон века, и отчаявшийся Кузьма, проклиная всю
бесовскую силу, каждую осень выставлял свою землю на продажу, но никто не
хотел покупать, - как ее купишь, если она под самой Чертовой горой!
ему судьба. <Черт не донес ту гору - бог донесет! - восклицал он на
Рогатинском рынке. - Кара! Кара!>
лице и на руках тоже была как бы красной, будто он только что выскочил из
пекла. Настася унаследовала от своего отца огненные волосы, а от матери
ослепительно белую кожу, нежную и шелковистую не только на ощупь, но и на
вид. Красота матери не передалась Настасе, но девочка этим не печалилась -
уже знала, какая морока с той красотой у ее маленькой мамуси. Как ни
изматывалась Александра с батюшкиными свиньями, а выходила в ярмарочные
дни или в праздники на Рогатинский рынок, надев белый, разукрашенный
вышивкой сардак*, обув красные сафьяновые сапожки, выложив на высокую -
так и рвала сорочку - грудь несколько ниток кораллов, и мужские взгляды
просто липли к ней, а кто понахальнее да посамоувереннее, тот откровенно
заигрывал. Особенно надоедали писарь рогатинский Шосткевич, богатый
сапожник, изготовлявший сафьяновые сапожки, Захариалович да еще голодранец
шляхтич из Подвысокого Бжуховский, здоровенный, мосластый, с торчком
поставленными усами, с толстенными руками, свисавшими из обтрепанных
рукавов кунтуша**, в рыжих от старости сапогах, слишком тесных для его
огромных шишковатых ног. Лисовский бросился как-то защищать жену от
настырного шляхтича, но тот пренебрежительно отстранил ничтожного попика
своею ручищей, процедив сквозь зубы: <Ты, поп, не вертись у меня под
ногами, не то растопчу!>
закричал отец Гаврило своей маленькой дочке. - Доподлинно такой, Настася!
Знай и помни, дитя мое!
где они и какие. Бжуховский был слишком простецкий черт. Не умел ни скрыть
своей драчливости, ни хотя бы приглушить ее. Потом прибыл от Сандомирского
воеводы, старосты земель русских, шляхтич Бобовский с жолнерами и стал
собирать в окрестных селах подати и недоимки. Наскочили и на Бжуховского,
у которого в Подвысоком был дом, а землю он давно пропил и жил то охотой,
то грабежом, коему открыто предавался с еще двумя-тремя такими же
забубенными головушками, как и он сам. Бобовский стал требовать от
Бжуховского, чтобы он уплатил подать, а тот податей не платил никогда и
никому. И это бы еще не беда, да шляхтич в запальчивости назвал
Бжуховского Бруховским, то есть приравнял к обычному хлопу-русину. Этого
уж простить Бжуховский не смог бы ни пану, ни богу. На ночлег Бобовский
остановился в господском доме на Подвысоком, а среди ночи туда ввалились
какие-то трое. Слуга Бобовского сказал им, что здесь ночует сам пан
шляхтич. Один из прибывших взял саблю и канчук Бобовского, вскочил в
комнату, где тот спал, и стал бить сонного. <Вставай, сукин сын!> Вбежали
еще двое, выволокли пана шляхтича в переднюю за волосы, били палками, его
же собственным мушкетом, отливали водой, снова били. Бжуховский, который
тоже прибыл на расправу, кричал из сеней: <Бейте хорошенько, только не
грабьте! Пусть знает, какой ему хлоп Бжуховский!> Кто-то выстрелил
Бобовскому в голову. Обмазали мертвому лицо его же собственным дерьмом,
ничего из вещей не взяли. А слуге сказали: <Скажи - убили его за то, что с
паном Бжуховским обошелся как с хлопом, а не как с шляхтичем. Чтобы все
знали и помнили!>
испуганно говорила Настася отцу, - за мамусю вот так бы и убил!
на праведных, а всех грешников ждет геенна огненная! Бжуховского же
первого!
потому что не проходило и трех-четырех лет, как на город нападали черные
силы, жгли, грабили, убивали, забирали в плен всех, кто не успевал
укрыться в лесах возле Гнилой Липы и за Чертовой горой. Батюшка Лисовский,
несмотря на постоянное пребывание под хмельком, всякий раз избегал со
своими домашними погромов, скрывался в дальнем лесу у Гнилой Липы, куда
убегали через Львовские ворота, потому что черные силы всегда врывались в
город через ворота Бабинецкие или Галицкие. Мама Александра, как бы






 Русанов Владислав
Русанов Владислав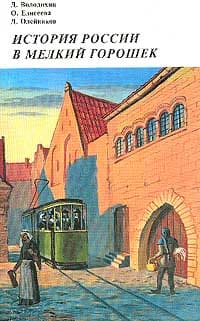 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Пехов Алексей
Пехов Алексей Корнев Павел
Корнев Павел Шилова Юлия
Шилова Юлия