где сама быть не могу. Ты нужен мне здесь. О поляках позабочусь. Проследи,
чтобы у них все было хорошо. И смени свою одежду. Не могу больше видеть
эти янычарские лохмотья. Иди.
наконец прибыл в блеске и роскоши великий визирь Ибрагим, привез золото
для державной казны, роскошные дары для султана, тысячи рабов и рабынь,
привез подарки и для султанши Хасеки. К тому огромному изумруду, что
украшал подаренное Роксолане султаном после Родоса платье, Ибрагим
добавлял теперь изумрудные серьги, перстень и браслет. Хотел вручить
султанше сам, не мог никому доверить такую ценность. Роксолана же
понимала: хочет говорить с ней без свидетелей. Держала его в руках, каждый
миг могла выдать султану, рассказав, как он покупал ее, как однажды велел
привести в свою ложницу, как, уже отдавая в султанский гарем, срывал с нее
одежду, чтобы увидеть то, что ему не принадлежало. Пока находился далеко
от Стамбула, был спокоен, а теперь ходил как по лезвию бритвы, ожидая
самого ужасного от этой непостижимой женщины, особенно же когда узнал от
верных людей обо всем, что произошло в последнее время в столице. Она не
пожелала видеть Ибрагима. Кизляр-ага лишь почтительно поклонился в ответ
на ее отказ и ничего не сказал, ибо не смел, но султан, которому,
наверное, пожаловался сам великий визирь, при встрече с Роксоланой
высказал недовольство таким ее отношением к своему любимцу.
собственноручно передать тебе столь ценный подарок. Он хотел бы завоевать
твою дружбу.
очиститься.
рождения Селима ты уже через неделю захотела посмотреть на свадьбу
Ибрагима и Хатиджи.
благодарность. Он человек учтивый.
Хуррем. Прощал ей все. Ослепленный любовью, не замечал, как постепенно
сбрасывает она кандалы рабства, высвобождается из крепких тисков гарема,
вырывается на волю, какой еще не знала ни одна женщина при Османах. Все ее
прихоти, как ни резко расходились они с предписаниями шариата, он
удовлетворял охотно и безотказно, считая их обычными женскими прихотями и
не замечая, что рядом с ним рождается характер могучий, твердый,
непреклонный, властный. Подсказать ему никто не умел. Сделала бы это
валиде, но после янычарского бунта сын не слушал мать. То же с сестрами.
Ибрагим был слишком осторожен, когда речь заходила о султанше, никогда не
чувствовал себя уверенным относительно этой женщины, а теперь должен был
просто бояться ее. Может, великий муфтий? Но тот ничего нового султану бы
не сказал, да и не имел права вмешиваться в дела гарема. Может, и сама
Роксолана еще не чувствовала своей истинной силы, так же как не умела
почувствовать и распознать всей сложности мира после пятилетней
однообразной жизни в гареме. Походила на людей, обреченных по характеру
своих занятий на уединенное существование, - на художников, философов,
схимников, обыкновенных заключенных, которые без надлежащей подготовки и
необходимой душевной твердости и закалки неожиданно оказываются в мире
чужом, враждебном, созданном не ими и не для них, и на первых порах (а то
и навсегда) теряются, ломаются, скатываются до услужливости. Но сходство
это было у Роксоланы лишь внешнее, неосознанное, сознание же ее бунтовало,
восставало против любой покорности, маленький аистенок летел в небо на
твердых крыльях, летел пока еще невысоко, но замахивался на полет высокий,
может, наивысший. Высоты она не боялась никогда. В Рогатине взбиралась с
мальчишками на самые высокие деревья разорять вороньи гнезда. Еще и
раскачивалась на ветках так, что качалось вокруг все окружающее
пространство, - от страха хотелось зажмуриться, но она не закрывала глаз,
приучала себя к страху, к опасности, к отчаянности. Тогда была поповской
дочкой, которой все прощалось, теперь стала султаншей - так почему бы и
тут не прощалось ей все, что она только вознамерится сделать? Однообразие
неволи губит человеческую душу. Она должна была спасать свою душу, не
дожидаясь ничьей помощи, не надеясь ни на поддержку, ни на сочувствие. В
каком отчаянии, в какой тревоге жила она все эти годы - кто об этом знал,
кто думал? Преодолела все, теперь должна была верить, что никто ее не
одолеет, - в этом было спасение и хоть какое-то возмещение за навеки
утраченную родину и отчий дом. Султан стоял у истоков ее величайшего
несчастья, и спасением от несчастья тоже должен был стать этот человек с
темным скуластым лицом, с нахмуренными бровями, понуро искривленным носом,
тонкой шеей, тонкими губами и с равнодушием, доводившим до отчаяния.
Султан знал только ее любовь, видимо, считал, что в этой маленькой Хуррем
другого чувства не может быть, понятия не имея о том, что ненависть в ее
сердце намного пышнее и сильнее, чем любовь, да и как могло быть иначе в
этих дворцах, где ненависть взращивали, как цветы, собирали, как дождевую
воду в пустыне, копили, как хлеб в закромах?
один враг чересчур много, - говорилось в пословице. А у нее врагов было -
аж чернело в глазах. Сумела устранить лишь одного из них - Четырехглазого
кизляр-агу, но не могла ничего поделать ни с всесильной валиде, ни с
султанскими сестрами, ни с Сулеймановым любимцем Ибрагимом, которого
теперь держала в руках, но и сама также была в его руках. Может, поэтому
ненавидела коварного и умного грека больше, чем остальных. К его изумрудам
даже не прикоснулась. Когда кизляр-ага принес их в золотых, устланных
белым бархатом продолговатых шкатулках, она только повела гневно глазами
и, прижимая к груди тонкие свои руки, вскинула подбородок: прочь! Еще не
приученный к ее молчаливому языку, огромный босниец неуклюже топтался у
двери, не зная, куда девать драгоценности, пока Роксолана не крикнула:
как трава на могилах.
и еще просит принять от него пятьсот рабынь-служанок, которых он привел
для вас из Египта.
великого визиря?
визирю и пусть скажет ему, что я не приму никаких служанок. Никаких и ни
от кого! Так и скажи.
новое дитя султанши, а сама султанша готова была сорваться на крик по
причинам, неведомым мрачному стражу гарема.
неприятельские галеры, полные воинов, выходят в море лишь затем, чтобы
найти друг друга и сцепиться бортами для смертельного поединка, ибо обе
предназначены только для этого, а воины на них - для убийства и смерти.
Поставлены были слишком высоко, чтобы не заметить друг друга. Ибрагим в
беспредельной своей заносчивости и наглости считал себя безраздельным
властителем султанова сердца, Гасан выступал от имени силы, может, и
меньшей, менее заметной, но загадочной своею неизвестностью, да и как
знать, кто одержит большую власть над душой Сулеймана - его любимец грек
Ибрагим или султанша Хасеки? От своих людей Ибрагим еще в Египте слышал о
появлении странных янычар при дворе. Гасан невольно следил за великим
визирем, еще когда тот был далеко от Стамбула. Один пользовался для этого
услугами платных доносчиков - улаков, к другому вести приходили сами, без
малейших с его стороны усилий. Великий визирь, собственно, и не знал о
загадочных Гасановых людях ничего, кроме того, что они бездельничают,
слоняются по Топкапы да еще всех дразнят: дразнят зверей в клетках,
дразнят белых евнухов у гаремных ворот, дразнят дворцовых писцов - языджи,
дразнят смотрителей оружеен и султанских кладовых.
столицу боснийского санджакбега Хусрева, чтобы расследовать обстоятельства
исчезновения французского посла с рубином Луизы Савойской. Султану об этом
еще не доложили, и Сулейман не знал ни про посла, ни про самоцвет.
Переселившись в отстроенный Коджа Синаном дворец на Ат-Мейдане, великий
визирь сделал своих голоштанных братьев управителями двора, мать перевел в
ислам, отцу дал санджак с годовым доходом в несколько тысяч дукатов, но
старый рыбак не поехал править в своем санджаке, остался в Стамбуле,
слонялся по грязным тайным корчмам, пьяным спал на улицах, позоря своего
высокопоставленного сына. Об этом султану тоже никто не докладывал, да и
зачем? Валиде каждую неделю навещала зятя и дочь Хатиджу в их роскошном
дворце, пожалуй, охотно перебралась бы к ним насовсем, но не позволяло
достоинство, да и не хотела терять свое законное положение повелительницы




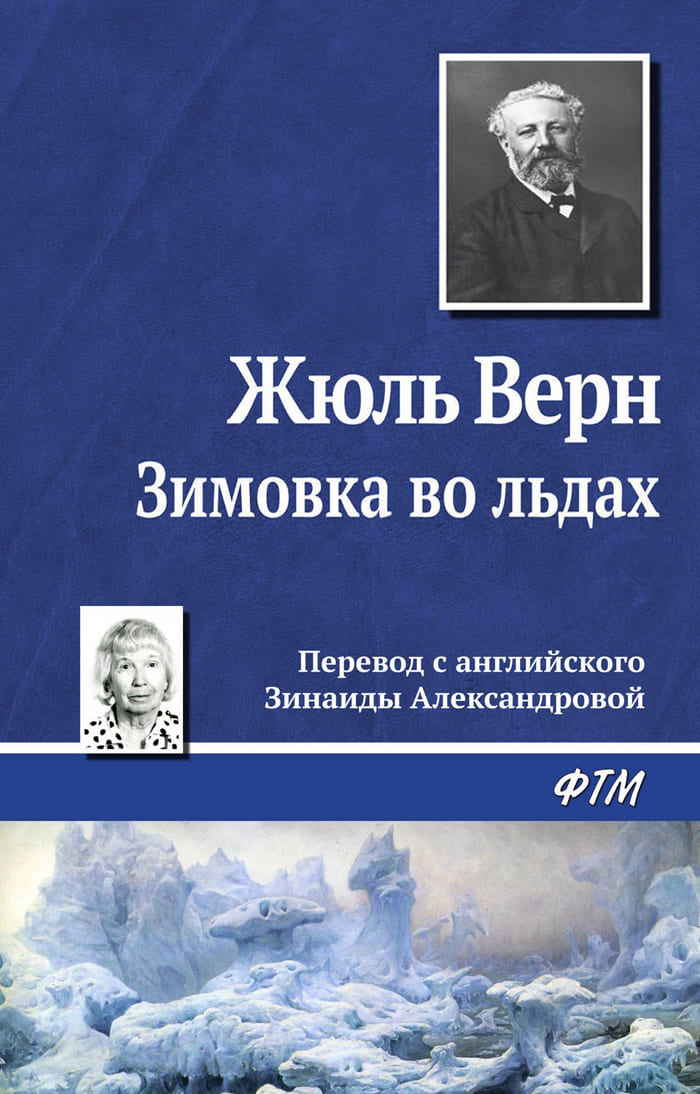
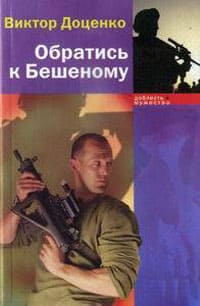
 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Березин Федор
Березин Федор Плотников Александр
Плотников Александр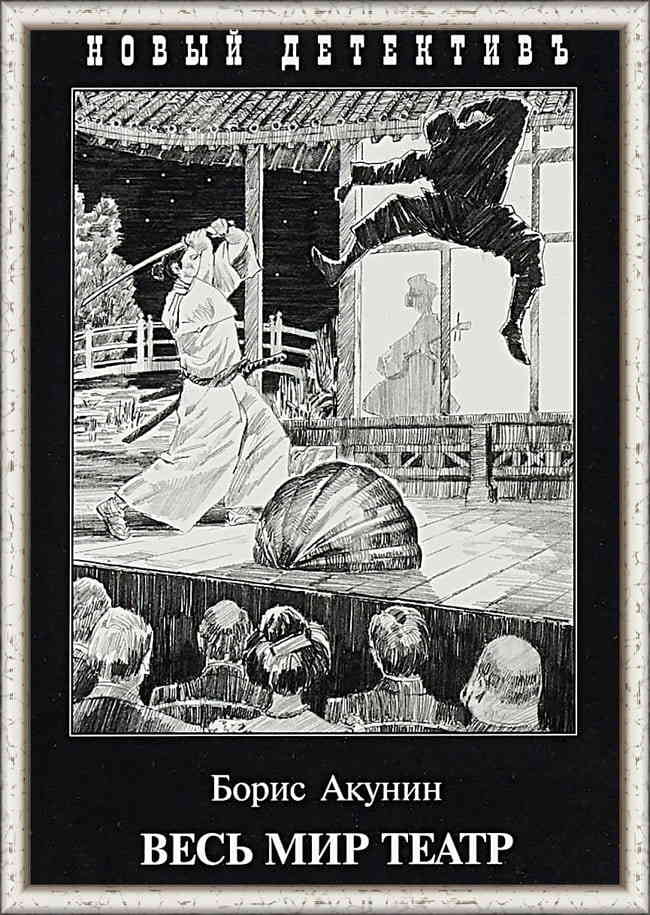 Акунин Борис
Акунин Борис