гарема. Знал Гасан-ага и о том, что первые три ночи по прибытии из Египта
Ибрагим провел не с женой, а с султаном, для которого привез дорогие
кандийские вина и приготовил множество новых мелодий и сам играл их на
виоле. Мелодии он собирал со всего света, для этого держал
высокооплачиваемого учителя-перса, ежедневно совершенствовался в искусстве
игры на виоле, зная, какую радость доставит эта игра Сулейману.
Единственное, чего никто никогда не мог знать, - это о ночных разговорах
султана со своим любимцем. Дильсизы молчали. А кто еще мог проникнуть в
святая святых? Были догадки, что султан большей частью молчит, слушая, как
вертлявый грек наигрывает на виоле да читает ему старинные книги. Когда
молчишь, хорошо думается, а султан любил подумать, это всем было известно.
О чем говорит Сулейман в своей ложнице с Роксоланой, тоже никто не мог ни
знать, ни догадываться, но тут уж все были уверены, что султан не молчит,
а говорит, ибо какая женщина даст помолчать мужчине, да еще в постели?
Скендер-челебией. Эта троица вершила все финансовые дела империи,
выискивала для султана средства на содержание армии и стамбульского двора,
для которых мало было даже государственных доходов. <Выискивать средства>
вызывало недоверчивые усмешки даже у людей непосвященных. Как можно найти
что-то там, где его нет и не может быть? Жить становилось все хуже и хуже.
Росли цены на золото и серебро. На одежду и продовольствие. Если прежде,
согласно с древними османскими законами, из ста дирхемов серебра чеканили
четыреста акча денег, то теперь чеканили уже шестьсот акча. Чрезвычайные
государственные налоги возникали один за другим. Готовясь к новой войне,
султан позволил Ибрагиму содрать с каждого жителя империи двойной налог. У
кого не было денег, продавали сестер, жен, матерей. А государству все было
мало. Расточительство на развлечения и украшения превзошло все пределы.
Сукно, атлас, шелковые и хлопчатобумажные ткани, тюрбаны и покрывала
отмерялись неполным аршином. При дворе и повсюду в империи вспыхнула
эпидемия взяточничества, без взятки под видом бакшиша, то есть обычного
подарка, не предоставлялась ни единая должность, ни единое место, а
придворные, напуганные слухами о новых и новых поборах Ибрагимовой троицы,
все усилия свои направляли теперь на то, чтобы собрать хоть кое-какую
деньгу, говоря, что на черный день всегда понадобится белая копейка.
янычара, которому при Ибрагиме стали платить вдвое меньше, заставляя
охранять людей, начавших жить вдвое роскошнее, чем прежде. Досадить хоть
чем-то чванливому греку - кто из янычар отказался бы от такого искушения?
А Гасан знал, что он доставит греку неприятность немалую.
Попросился на прием загодя. Взял с собой двух Гасанов и двух Ибрагимов -
Каллаша и Яйгу, то есть пьяницу и болтуна (великий визирь уже знал и про
Ибрагимов со смешными прозвищами и, наверное, ярился, лютовал в душе, но
что мог поделать, учинить против воли самой султанши?), чтобы не самому
нести золотые шкатулки с драгоценностями, проследил, чтобы его янычары
оделись в подаренную Роксоланой новую роскошную одежду, надеясь еще и этим
поразить грека, который питал пристрастие к роскоши и дорогим нарядам,
выдумывал новые одеяния не только для себя, но и для своих слуг,
оруженосцев, пажей, вызывая зависть и нарекания при дворе.
Гасана и его людей. Он даже обежал вокруг Гасана, так же обежал вокруг его
людей, стреляя своими острыми глазами и поблескивая острыми зубами из-под
черных усов. Гасан почтительно, как и подобало перед столь высоким
сановником, кланялся, кланялись и янычары, хотя это им и нелегко давалось,
потому что непривычны, а кроме того, мешало негнущееся, тканное золотом,
как проволокой, платье.
людей столь знакомые ему золотые, с самоцветами шкатулки, спросил:
для тебя ничего не значит? Она велела отнести тебе эти вещи и еще велела
передать, чтобы ты своих рабынь или наложниц, - не знаю уж, кто там они
есть, - оставил при себе и не смел посылать ей. Это все.
ним и его янычары, - они поставили принесенное и норовили побыстрее
выскользнуть из приемного покоя визиря, чтобы оказаться подальше от греха,
ибо руки их хоть и отвыкли в последнее время держать саблю, но все же
чесались и сжимались в кулаки в присутствии этого человека.
постичь, кто же нанес ему большее оскорбление - Роксолана, эта никчемная
рабыня, которую он купил на Бедестане и мог бы уничтожить когда-то одним
мановением пальца, или этот молодой янычарский ага, завоевавший
благосклонность султана лишь потому, что в то время не было в столице его,
Ибрагима, который расправился бы с подлым янычарским отбросом без малейших
усилий, подкупив продажнейших из них еще до того, как эта вонючая сволочь
вздумала взбунтоваться.
еще меня не знает, но узнают! Узнают!
было: Сулейман собирался в поход против венгерского короля, принимал
послов, рассылал повсеместно гонцов с повелениями санджакбегам и
бейлербегам поднимать спахиев на священную войну против неверных. Это
требовало сосредоточения всех державных усилий, и не до мелочных обид было
теперь, даже если обиженными оказывались высочайшие личности империи.
принесет новые торговые привилегии для их республик, либо отберет
привилегии давнишние, не сидели сложа руки, а напоминали о себе щедрыми
дарами султану, Роксолане, вельможам. Посол от пленного французского
короля умолял не откладывая ударить на императора Карла или на его брата
Фердинанда, которому, по соглашению между Габсбургами, досталась Австрия.
Польский посол ждал, когда его допустят пред султановы очи, дабы просить
мира для Польши и Венгрии, где на троне сидел сын Владислава Ягеллона
Лайош, но Сулейман не хотел видеть посла Яна, пока тот не удовлетворит
прихоть султанши Роксоланы, а посланные в королевство люди задерживались -
дорога была далекая, тяжелая и опасная. Когда же наконец после многих
месяцев нетерпеливого ожидания измученные и отчаявшиеся, ни о чем,
собственно, не узнавшие посланцы вернулись в Стамбул и Гасан-ага появился
в караван-сарае на Константиновом базаре, чтобы услышать от пана Яна о
результатах их поездки, королевский посол пожелал быть допущенным к
султанше Роксолане, поскольку он сам должен сообщить ей обо всем, а также
поднести подарки от имени короля Зигмунта - золотую розу, кованную
итальянским мастером, большое ожерелье из польского янтаря и золотую цепь
сканной работы весом в сто сорок четыре дуката.
Гасан-ага. - Да и обычая такого нет, чтобы султанша принимала послов. А
если и придет позволение, то ждать его снова придется долго.
молвил посол. Не сказал Гасану, что за вести, да и не заботило его, добрые
они или лихие. Имел вести - и этим тешился, ибо разве же не предназначение
послов передавать вести, быть другом правды, слугой откровенности, рабом
искренности?
Сулейманом. Едва только он передал султанше свой разговор с послом Яном,
его необычную просьбу, как буквально через несколько дней властью
султанского имени врата Топкапы открылись перед польским послом - он был
поставлен не перед султаном, не перед великим визирем, который по обычаю
принимал гостей, а перед Роксоланой, которая милостиво приняла подарки от
польского короля и поклоны от посла, а также выслушала пана Яна, хотя
лучше бы и не слушала. Смотрела, как самоуверенно топорщатся усы пана Яна,
как важно произносит он каждое слово, гордясь своим изысканным польским
языком, радуясь, что его речь может соответственно оценить столь высокая
личность, ужасалась услышанному, не могла поверить, чтобы человек мог так
спокойно, почти смакуя, сообщать о столь ужасных вещах. Рогатин лежит в
руинах, церкви сожжены, все разрушено, люди уничтожены. Ни Лисовских, ни
Скарбских, ни Теребушков, ни Зебриновичей, никого, никого, новые люди
пришли на пожарища, начинают жить заново, и их жизнь также в любую минуту
может прерваться от набега дикой орды. Собственно, посол и прибыл к
султану, чтобы просить мира для всей земли Польской и покоя от Крымской
орды для восточных земель Польши, ставших пустыней.
обещала, что султан вскоре допустит его пред свои очи, улыбалась властно,
а у самой в душе кричала боль: неужели это все правда, неужели, неужели?
с нею происходит, лишь сон, точно спала она пять нескончаемо долгих лет
далеко от дома, от родных, и разделяют их лишь пространства, стихии и
загадочность. Теперь должна была проснуться, и пробуждение было ужасным.
Просторы стали бездной, стихии - необратимой гибелью всех родных и
близких, загадочность - расправой палачей.
ночь, когда пылал Рогатин и когда она была брошена в неволю, охватило
Роксолану, с тоской смотрела назад и вокруг: какие же высокие стены
Топкапы и башни над ними, и какой безнадежностью окутана эта земля и небо
над нею!.. Отчий дом, живший в ее болезненном воображении, исчез навсегда,
никаких надежд, не за что зацепиться ни разумом, ни сердцем. Даже могил


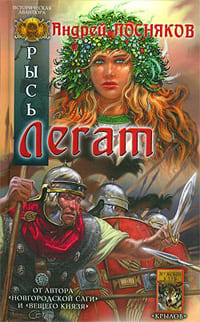
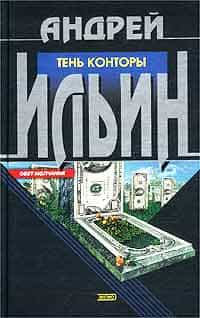


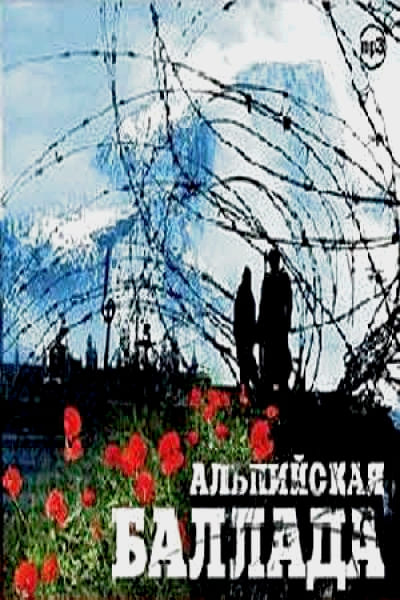 Быков Василий
Быков Василий Громыко Ольга
Громыко Ольга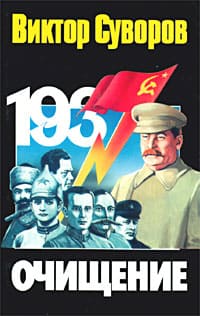 Суворов Виктор
Суворов Виктор Панов Вадим
Панов Вадим Конюшевский Владислав
Конюшевский Владислав Земляной Андрей
Земляной Андрей