нет, чтобы упасть перед ними на колени, чтобы плакать и целовать землю,
поставить кресты, возлагать цветы - эту тщетную надежду возместить
невозмещенное, вернуть навеки утраченное, утешиться в безутешном горе.
Горе, горе! Горе было в этих каменных стенах и дворцах, в этих бесконечных
садах, в высоких кипарисах, которые молчаливо раскачивались под ветром,
как темные мертвецы, в неуклонном угрожающем падении; горе проглядывало
сквозь плетение причудливых растений, бессмысленных в своем буйстве, в
своей алчности; горе разбрызгано было каплями и сгустками крови на розах,
алевших, как сердца всех невинно убиенных, замученных, истребленных; горе
светилось с бесстыдно оголенных стволов платанов. И не найдешь виновных,
никому не пожалуешься, ни перед кем не заплачешь. Мамуся родная, видишь ли
ты свое несчастное дитя? А ты, татусь? И где твой всемогущий и милосердный
бог? Где он? Ведь не пришел на помощь ни тебе, ни твоей единственной
дочери!
посла, и Яну из Тенчина был дан торжественный прием султаном и султаншей -
впервые за все существование Османской державы! - и дан был также отпуск
от султанской пресветлой персоны с полным, правда, неписаным ответом,
обещанием вечного мира и подарками для короля Зигмунта и благодарностью за
королевские дары султану: плащ королевский, тканный золотом, на красной
подкладке, согласно польскому обычаю усыпанный золотистыми звездами, посох
янтарный в золоте, цепь золотая, вязанная рыцарскими узлами, весом в 364
дуката и цепь золотая, крученная в пучки, весом в 288 дукатов. Еще султан
спросил пана Яна, правда ли, что пятьсот лет назад император германский
Оттон подарил первому польскому королю Болеславу Храброму золотой трон
Карла Великого из его гроба в Аквизгране, но посол не смог ответить, где
тот трон обретается и цел ли он еще или пропал где-то в бесконечных войнах
и королевских раздорах.
Сулейманом молча, с сухими глазами, сановно улыбалась пану Яну, который
довольно топорщил кошачьи свои усы, а в душе у нее звучали такие рыдания,
что от них мог бы содрогнуться весь свет. Но в Топкапы никогда не слышат
рыданий. Топкапы велики. Здесь не слышат ни рыданий, ни детского плача, ни
вздохов. Здесь говорит лишь ненависть да звери ревут в подземельях, и надо
всем - власть незримая, безымянная, тайная, именно поэтому и
беспредельная, ибо тайное не может иметь ограничений.
этому жестокому миру только властью.
восстановление рогатинских церквей. Чтобы их отстроили еще краше, чем они
были, с иконами и книгами, с оборонными стенами и башнями, и чтобы за этим
было прослежено со всей тщательностью, - она ведь и сама еще не раз пошлет
гонцов проследить за строительством, - но имени ее называть не надо и
вспоминать о дарах не следует, ибо перед богом все безымянны и грешны.
горьких слезах своего несчастного отца, вспомнила и его давние стихи,
которые он часто декламировал, поскольку цеплялась за его удивительную
память всякая всячина, над которой они с мамусей часто подтрунивали, -
ведь у них были в запасе тысячи своих песен и припевок, таких изумительно
мелодичных в сравнении с корявыми словесами батюшки Лисовского. А теперь,
возвращаясь мыслями в прошлое, которого уже не вернешь, шептала те
неуклюжие отцовские вирши, и заливалась слезами, и сожалела, что не может
вложить в суму с золотом еще и эти золотые слова: <Мужайся, многоплеменный
росскiй народъ, да Христос начало крепости в тебе буде>.
Но что? Разве она знала? А у кого спросить? И как?
велела, он не увидел на ее лице никаких следов горечи и отчаянья,
бушевавших в душе Роксоланы. Несчастье научило ее скрывать тягчайшие свои
боли, страдания закалили душу.
Синам-ага и поставить перед нею. Сама еще не знала, что с ним сделает,
хотела видеть и нетерпеливо спрашивала у Гасана, где тот купец, но
Синам-аги не было в Бедестане, не было и в Стамбуле, говорили, что он
сопровождает из Кафы новый товар. Товар? Что за товар? Людей? Живых людей
на продажу!
Роге. Привели как был. Грязного и обшарпанного. Наверное, обшарпан был
бурями черноморскими, - море всегда неласково к людоловам. Синам-ага не
смел поднять глаза на султаншу. Упал на колени. Ползал по ковру. Ел ворс.
продавал?
пророком, что он честный челебия, что людьми не торговал, а если когда и
пришлось, то был это разве что случай, о котором и вспомнить страшно, он
же честный челебия, всю жизнь проплавал на водах, под бурями, дождями,
опасностями, угрозами через море к дунайским мунтянам, потом возами через
Валахию аж до королевства, возил туда бурский чамлит*, багазию** и
мухаир***, ковры, турецкую краску, конскую дорогую сбрую, привозил оттуда
бецкие чвалинки и ножи чешские, сукна лунские, гданьские и фалендиш,
шапки-магерки, горючий камень, меха. А в Кафе он и не был никогда, - разве
ж там купцы, разве ж там торговля...
бормотанье, но слово <Кафа> ударило, как пощечина. Кафа, эта
отвратительная, ненасытная пасть, пожиравшая кровь ее народа, сожрала,
поглотила ее самое, ее жизнь, ее свободу. Один раз откажешься от свободы и
потом навеки забудешь, что это такое.
людопродавца. Боже праведный! Такая низость, такая подлость... Ее, молодую
и отважную... И она не вырвалась, не убежала, невольно сравнялась с этим
старым отребьем, с этим <недоверком>. Даже сознание собственной
ничтожности может сделать нас великими, поднять над безмолвностью природы,
которая никогда ничего не знает. Роксолана могла теперь посмотреть на свою
прежнюю жизнь, с высоты вознесения увидеть невероятность унижения и не
закрыть глаз, не зарыдать в отчаянье, а с молчаливым презрением
отвернуться, как будто ничего и не было, как будто не с нею самой, не с ее
народом. Она ведь теперь султанша. Всемогущая повелительница. Знает себе
истинную цену, никогда не уподобится ни зверю без души, ни ангелу без
плоти.
просил хоть слова, хоть взгляда.
голову!
оказавшись среди титанов, поднявшись до небес, Роксолана должна была
наконец оглядеться, посмотреть на свет, покончить навсегда с
ограниченностью и слепотой, на которые была обречена в гареме пять первых
лет пребывания в Стамбуле.
предрекал ей все большую и большую свободу! Барабаны гремели после
появления на свет каждого ее сына, барабаны Мехмеда, Селима, Баязида,
барабаны ее торжества, силы и победы. Могла бы успокоиться и навеки
остаться в стенах гарема, наслаждаясь музыкой султанских барабанов,
которые убаюкивали султанских жен вот уже столько веков, ибо ведь голос
барабанов всегда посредине между добром и злом, как месяц среди ночи.
Какое заблуждение! Как могла она хоть на миг допустить до себя ядовитую
змею успокоения и примирения! А этот миг продолжался более пяти лет!
Когда-то ее учили, что только в день Страшного суда, когда мертвые
восстанут из могил, дано будет человеку видеть все, что было и чего не
было и не будет никогда. Теперь не хотела ждать того дня, ибо уже побывала
в могиле и восстала из нее сама, без чьей-либо помощи, без богов и
дьяволов, и хотела видеть и знать все, и рвалась на просторы знаний всеми
силами своей души. Еще не взобравшись на вершину, не одолев и не устранив
врагов, которыми кишмя кишело вокруг, уже познала непередаваемое ощущение:
будто широко открылась невидимая дверь и вольный мир окутал ее отовсюду,
могучая жизнь нахлынула на нее в борьбе, криках, стонах, вспышках,
вздохах, красоте, величии, многотрудье. События ведомые и неведомые,
угадываемые, услышанные лишь со временем становились рядами, удивляли,
пугали, ошеломляли, растревоживали.
Лютер сжег буллу. Лукас Кранах сделал портрет Лютера (гравюра на меди),
Дюрер нарисовал портрет Эразма Роттердамского. Магеллан открыл Чили и
пролив (названный впоследствии его именем), через который попал в океан,
наименовав его Тихим. Какой-то немец из Нюрнберга работал над нарезкой
ствола огнестрельного оружия, чтобы из него точнее поражать людей. В
Аахене короновали императора Карла V. Король Франциск основал в Париже


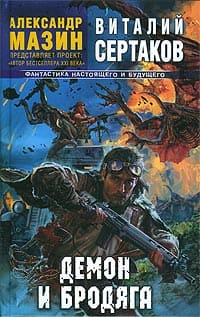
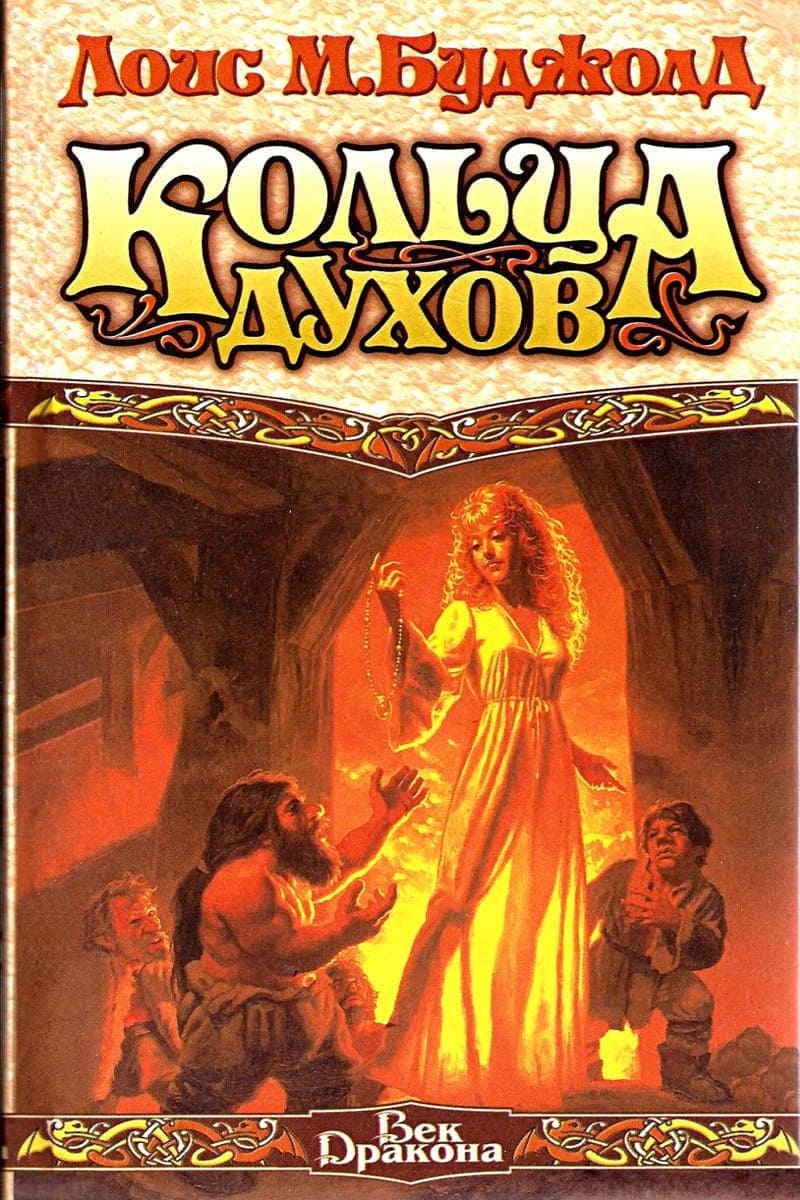


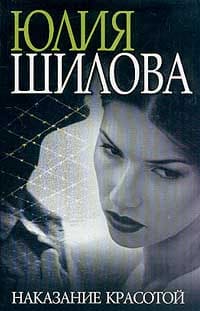 Шилова Юлия
Шилова Юлия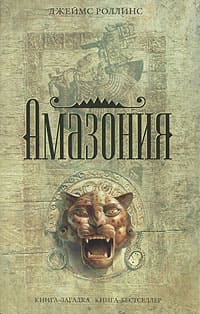 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс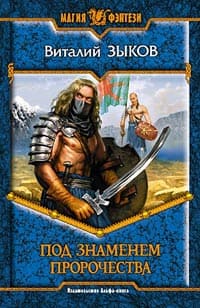 Зыков Виталий
Зыков Виталий Корнев Павел
Корнев Павел Круз Андрей
Круз Андрей Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур