предостерегая дочку, напевала ей уже не веселые и беззаботные песенки, а
песни такие же страшные, как набеги чужеземцев на их несчастный город: <За
синiм морем, над новим двором, Настася сорочку ши†. Ши†, вишива† i на двiр
погляда†. <Миколайчику, братику, що там так синi†? Ци рата†ньки орють, ой,
ци волики пасуть?> - <Ой, Настасю, сестро, не рата†ньки iдуть i не волики
пасуть, оно по тебе, Настасю, туроньки iдуть>. - <Ой, Миколайку, братику,
найми же ти кухароньку, а я сховаюся пiд дев'ятеро дверей, пiд десятий
замок>. На...хали туроньки, стали Настасю шукати... Настасина хустонька, но
не Настасина голiвка; Настасинi пацьори, но не Настасина шия; Настасина
суконька, но не Настася сама; Настасинi панчошки, но не Настасинi ножки,
Настасинi черевички, но не Настасин хiд. Стали дверi ламати, Настасю
добувати; дев'ятеро дверей зламали i Настасю достали...> И плакала мама,
словно предчувствуя долю и свою, и своего дитятка.
земля. Сам султан турецкий Баязед, боясь землетрясения, вышел за каменные
стены Царьграда, жил в шатре на поле, а в Царьграде рухнули три башни,
разрушился дворец Константина Великого, сотрясало землю в Тракий, Боснии,
Далмации и даже в близкой Валахии. Кара на людей, а за что?
Грабили и жгли, как татары и турки, вывезли из Рогатина все ценности, даже
сам польский король разгневался и заставил волахского воеводу Стефана
вернуть награбленное, и среди всего другого были возвращены все ценные
книги, также и серебро из церкви Святого духа; хотя отец Лисовский, не
зная грамоты, не мог составить описи всего церковного имущества, но помнил
все так, что с его слов была составлена бумага, по которой валахи и
вернули украденное. А было там три чаши позолоченных, три белых, всего чаш
восемь, а в них серебра шестнадцать гривен и пять и пол-лута*, а еще
кресты, кадильницы, лампады, пожертвования - на сорок три гривны и
тринадцать лутов серебра. Кроме того, Евангелий в оправе три, служебников
в оправе три, Псалтырь и Часослов, Триодь цветная, октоих да еще четыре
книги, названий коих запомнить он не в силах, ибо великой мудрости книги.
Надеялся, что дочка выучится грамоте, постигнет все известные и доступные
в Рогатине науки и тогда прочитает те редкостные книги, которые собрались
в его церкви за много веков.
наука обошлась Лисовскому в целую свинью. <Свинью целую положил на свою
Настасю, прошу я вас!> - восклицал отец Гаврило. Он плакал, растроганный,
глядя на свое теперь уже ученое дитя. <Малжонка моя верно-милая уродила
мне со мною сплодженую дочку панну Настасю, первую в городе моем, которая
во всем теле своем, тако в лице, яко и в знаках, которые у меня,
притрафила и уродила>. Но в пьяном хвастовстве, попирая собственное
достоинство, упорно величал дочку королевной, а достаточно ли для
<королевны> мизерной науки, почерпнутой у Теребушка? Еще бы набраться ей и
добрых обычаев да наук высоких, а дать все это в Рогатине мог единственно
викарий Иероним Скарбский. Когда же отец Гаврило сунулся к викарию, тот
заломил цену уже не в одну свинью, а в целых шесть. <Шесть свинок за науку
его латинскую! - потрясал маленькими кулачками отец Лисовский. - За язык
славянский свинью одну, а за латину целых шесть? А язык же славянский
правдой божьей основан, построен и огражден-есть, в латинском же только
лжа, поганская хитрость и фарисейство сидит, почивает и обладает!> Но кто
же еще в Рогатине мог похвалиться тем, что положил на всю науку для своего
дитятка одну, а потом целых шесть откормленных свиней? И мог ли уберечься
от искуса похваляться таким деянием на протяжении всей своей жизни батюшка
Гаврило Лисовский? Ведь и оправдание было под рукой. Ибо разве же
проживешь с одним Часословом? Без латыни не поймешь ни судьи, ни
стряпчего, ни посла. И Настася стала ходить на усадьбу к викарию
Скарбскому. Он ошеломил маленькую девочку огромностью своих знаний,
суровостью ума. Его небудничность поражала и оглушала. Одевался, как никто
в Рогатине, высокий, тонкошеий, с грустными темными глазами, с тихим
голосом, равнодушный к мирским утехам, далекий от мелочей и суеты, он
поразил Настасю в самое сердце, и она влюбилась в него не так, как доныне
влюблялась в сопливых мальчишек, с которыми носилась босиком то на Чертову
гору, то в отцову церковь разглядывать причудливые древние иконы с
бородатыми святыми.
про Настасину влюбленность, безжалостно высмеяла подругу:
Писал летописец про тот год: <Татар сорок тысяч с четырьмя царьками на
Русь вторгнулись и положились недалеко Бузска кошем, а отряды по всем
сторонам распустили, палячи, вяжучи, убиваючи, в неволю беручи, и больше
нежели шестьдесят тысяч люда тогда забрали в неволю, кроме детей, а старых
обезглавливали и на миль сорок волости вдоль и вширь огнем и мечом
завоевавши, домой вернулись в целости>.
Скарбский сбежал прежде всех и быстрее всех - у него всегда пара коней
была готова на такой случай и люди верные, сообщавшие, откуда налетает
орда. Отец Лисовский выезжал из Рогатина в села крестить детей. Там и
спасся. А Настасю с мамой налет застал на усадьбе. Мама только успела
втолкнуть малышку в свинарник. <Дитятко мое, спасайся!> А потом темный
топот, гогот, свист стрел, свиньи метались, погибая, подплывая кровью,
валились тяжело на девочку, и - темный топот, потемнело все, снова мамин
крик, и снова топот, и едкий смрад конского пота, а она задыхалась среди
луж крови - своей собственной или убитых животных? Отец прибежал лишь
ночью. Упал на колени. Плакал, и молился, и проклинал. Осталась без мамы,
спасенная мамой. Тьма поселилась в Настасиной душе с того дня, и хоть смех
со временем снова пробивался наружу, но был уже не такой беспечальный,
беззаботный, как при маме, про влюбленность свою в сурового наставника и
не вспоминала, да и какая там влюбленность в одиннадцать лет!
Добровлянский исповедовал рогатинских мещанок. Урсуля, Янечка и Настася
прижимали уши к деревянной решетке, прислушивались к бормотанию пана
Станислава: <Фецисти квод кведам мулиерес фацере солент квандо либидинем
се вексантем экстингере волюнт?..>* Думалось ли, гадалось во время тех
дерзких забав, что придется ошеломить этим грязным вопросом из
католического пенитециалия чванливого Луиджи Грити на стамбульском
Бедестане?
ночь рогатинцы убегали в леса, хватая из имущества что придется. Мошко
Шаев, хозяин каменного дома с подвалом на рынке, прятал от татар деньги
под камнем, а Василь Чуйчишин видел и украл. Рассказала об этом Марунька
Голод, жившая в халупе возле большака Галицкого. Однако на суде Марунька
отказалась от показаний, из-за чего Шаева заставили извиниться перед
Василем Чуйчишиным такими словами: <Жаль мне, что я это содеял, такие
слова с гневом сказал, когда о вас ничего плохого не знал. Прошу вас, во
имя бога, чтобы мне это простили>. И все равно Шаева посадили в башню, где
он должен был отсидеть неделю за поклеп.
зеленый, прекрасный. Зло отступало до отдаленнейших горизонтов
воображения, нужно было жить и любить, чтобы не погибнуть, смеяться и
напевать парням, собирать цветы возле Липы и Свиржа, прислушиваться к
лесным шелестам, как к собственному дыханию, жить среди неприступных,
исполинских буков, ласковых лещин, притаившихся под листьями грибов, ярких
твердых ягод. Часто в те годы шли дожди. Она убегала тогда из дому,
блуждала в одиночестве по лесу, там было живое дыхание буйной зелени и
ощущение неудержимой силы прорастаний, бесконечности и летучести тела и
духа. А может, это она росла и ей хотелось туда, где это ощущалось всего
острее?
солнышком, отец - королевной, напевала себе песенки, подпрыгивая на одной
ножке, высовывала от удовольствия язычок, показывая белому свету: <Вот!>
Не терпелось ей поскорее вырасти, рвалась из детства, как из тенет. Куда и
зачем?
гибком теле, неизъяснимое томление нападало внезапно, почти так же, как
настырные братья Бабьяки, скрытные и злые, как маленькие собачонки: то
прожгут штаны на портном Яне Студеняке, то дернут за бороду самого райцу
Голосовского, то украдут котел у лудильщиков-цыган, то прижмут
какую-нибудь из девчат, чудом она спасется. От Бабьяков Настася убегала,
не поймали ни разу, но разве она знала, от кого бежит? Наверлое, пришло
для нее такое время, пора приспела, когда толкает тебя какая-то сила к
людям, а ты выбираешь одиночество. Наверное, и спаслась благодаря своей
странной привычке убегать из дому по ночам.




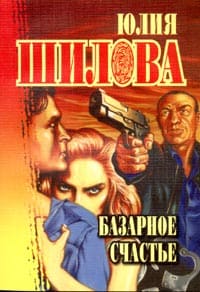
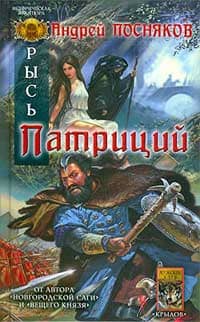
 Прозоров Александр
Прозоров Александр Курылев Олег
Курылев Олег Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Гуревич Георгий
Гуревич Георгий Флинт Эрик
Флинт Эрик Посняков Андрей
Посняков Андрей