тебе денег, а ты предложи их Гульфем за право пойти к султану.
обливала слезами растроганности и радости.
я слаба. Возьми вон там кожаный мешочек с дукатами. Хватит тебе откупить у
Гульфем не одну ночь.
ложницу белотелую Кинату, Сулейман чуть не бросился на одалиску с ножом.
словно бы и впрямь остерегался сам себя.
дух. - Повтори, что ты сказала, - велел Сулейман Кинате.
продают, как мешок шерсти. Как поступают с теми, кто продает султана?
одалиску. <Счастье твое, что его величество не вспомнил о тех, кто
покупает>, - процедил он сквозь зубы, толкая Кинату перед собой в сумрак
длиннющего коридора.
в недрах гарема, но слишком бездонны те недра, чтобы этот крик мог
вырваться наружу! Может, и угрожала несчастная одалиска, может, звала на
помощь всемогущего султана, никто не слыхал, а евнухи, зашивавшие ее в
кожаный мешок и тащившие через сады гарема к Босфору, были глухи, немы,
слепы, ибо наделены были только единственным даром - послушанием.
трясло от рыданий.
догадывалась, а когда услышала, то сказала:
своей несчастной судьбе, ибо кто же в гареме мог быть счастливым? Потом
Кината сквозь всхлипывания проговорила горько:
не тронет.
по пушистым коврам, прислушивалась к тихому дыханию своего самого меньшего
сыночка, к тихому журчанию воды в мраморном фонтане, радовалась, что она
живет, что здоровье возвращается к ней, без конца повторяла чьи-то стихи:
Все красное! Выбрось эти желтяки. Чтоб я не видела больше ничего желтого!
Откуда оно тут насобиралось?
украшений, ни золота, ничего, ничего! Красный, как кровь, шелк, и я в нем,
красная, как утренняя роза!
светила тугим, ладным телом, на котором соблазнительно круглились тяжелые
полушария грудей, так что даже тяжелотелая Кината, забыв о своих страхах,
залюбовалась ею и вздохнула громко, может завидуя этой стройности и
легкости, не пропавшей в Роксолане даже после тяжелого недуга и
угнетенности духа и, наверное, не пропадет никогда, ибо такие тела словно
бы не поддаются ни времени, ни старению, ни самой смерти. Роксолана
услышала этот завистливый вздох, остановилась перед Кинатой, словно
впервые здесь ее увидела, но сразу вспомнила, все вспомнила, засмеялась:
бумаги, быстро мережила его змеистыми буковками, такими же маленькими и
изящными, как она сама:
отчаянья. Что я натворила и чем стала моя жизнь без Вас, владыка мой, свет
очей моих, ароматное дыхание мое, сладостное биение сердца моего? Разве не
наши влюбленные голоса звучали еще недавно в благоуханном воздухе
священных дворцов и разве не завидовали нашим объятиям даже бестелесные
призраки? А теперь любовь наша задыхается без воздуха, умирает от жажды,
лежит в изнеможении, ее терзают хищные звери, и черные птицы смерти кружат
над нею. Отгоните их, мой повелитель, моя надежда, мой величайший защитник
на этом и на том свете. Пожалейте маленькую Хуррем и спрячьте ее в своих
могучих объятиях>.
печаткой, протянула Нур.
лукавит, исчезает куда-то с молодым румелийским пашой, снова возвращается,
смеется над султаном: <Я ведь его не целовала. Он меня, а не я его!>
Никакое могущество не могло спасти от бессилия перед женщиной. Он
проснулся, переполненный бессильной яростью. Разыскать того пашу! Не знал,
как его зовут, есть ли вообще на свете тот паша, но был убежден: найдет и
уничтожит, ибо обладает наивысшей властью, а власть если и не всегда может
творить и рождать что-то новое, то в уничтожении не имеет никогда преград.
И люди соответственно делятся на палачей и на жертвы, и это самая суровая
правда на этом свете. А он? Кто он? Палач или жертва? Перед этой женщиной
не был ни тем, ни другим. Не палач и не жертва, а просто влюбленный в
женщину - вот третья правда на свете. Святость без бога, совершенство без
веры и надежды - вот женщина, но не возлюбленная, а только такая, как
Хуррем Хасеки, а может, только она единственная.
вновь увидел Роксолану, увидел, как идет она к нему, вся в летящем алом
шелку, совсем невесомая, словно бы не касаясь земли, то закрыл глаза от
страха, как бы она не исчезла, не оказалась наваждением. Снова раскрыл
глаза - она шла к нему. Шла, оставляя золотые следы. Такое впечатление от
ее ног и от всего ее тела. Плача и вздрагивая худенькими плечами, упала
ему в объятия, и он не знал, что сказать, только дышал громко и часто,
растревоженный и беспомощный.
горел в ней, и его высокое пламя обжигало Сулеймана, обнимало полыханьем и
его суровую, твердую душу.
много горя на свете, почему, почему?
щеки, волосы.
в священную неприкосновенность Баб-ус-сааде, почему, зачем?
наши в крови по локти. Ваше величество, Гульфем хотела соорудить в вашу
честь большую джамию, воздвигнуть дар своей любви к вам, для этого и
собирала деньги... Я в тяжелом недуге своем, уже и не надеясь на
выздоровление, тоже сделала свой взнос в это благочестивое дело, может,
аллах и помог мне одолеть недуг, а Гульфем... Гульфем...


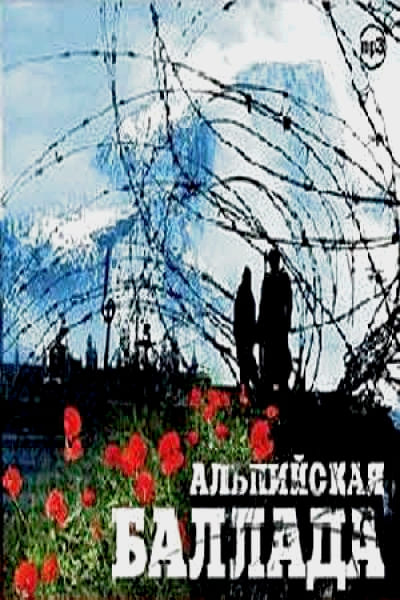
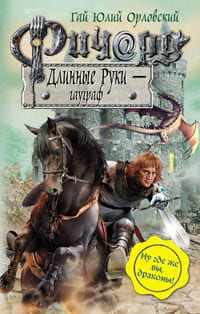
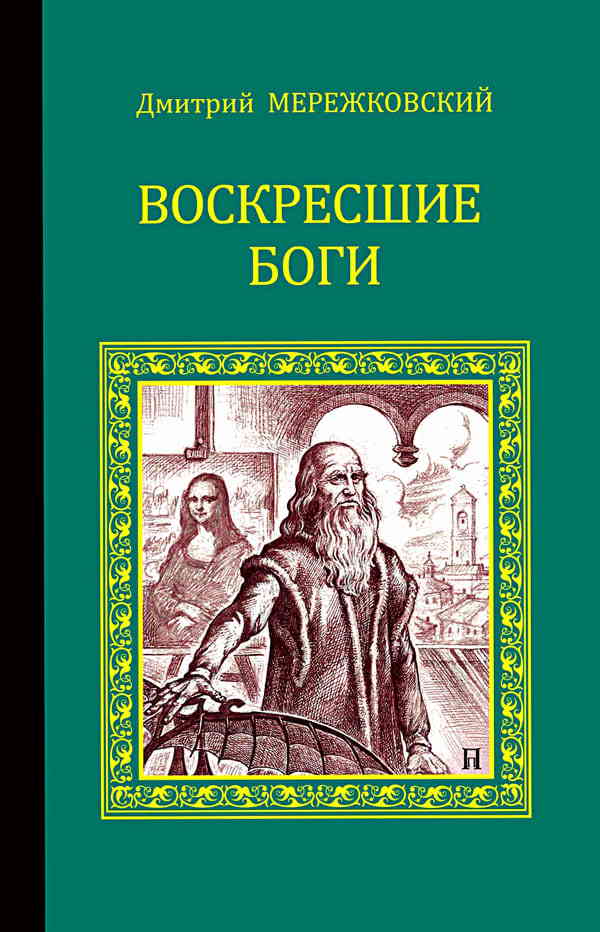

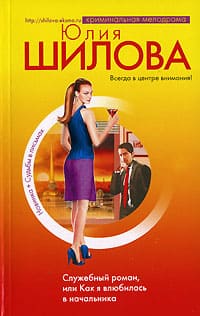 Шилова Юлия
Шилова Юлия Березин Федор
Березин Федор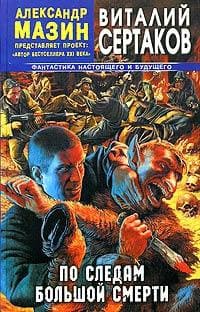 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий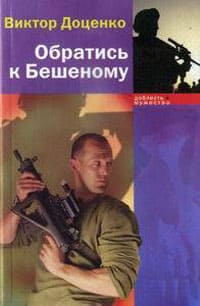 Доценко Виктор
Доценко Виктор Чернецов Андрей
Чернецов Андрей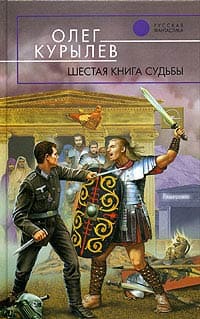 Курылев Олег
Курылев Олег