пробуждения? С течением дня они сдвигались вокруг нее, сжимали, стискивали
ее, уже словно бы и не шелковые, а каменные, тяжелые, как несчастье. Чем
понятнее становилась ей жизнь в гаремных стенах, тем бессмысленнее она
казалась. Порой нападало такое отчаянье, что не хотелось жить. Держалась
на свете детьми. Когда-то рожала их одного за другим - даже страх брал от
таких неестественно беспрерывных рождений, - чтобы жить самой, зацепиться
за жизнь, укорениться в ней. Теперь должна была жить ради детей.
избавлением, а со временем стал ближайшим, единственным человеком, любимым
человеком, хоть и все еще загадочным. Постепенно она сдирала с него
загадочность, упорно добиралась до его сути, до его мыслей и сердца. Когда
еще не было у него Хуррем, любил ужинать с Ибрагимом, теперь на долю грека
выпадали разве что ужины в походах, в Стамбуле же почти все ночи
принадлежали Хуррем. Обедал султан иногда с визирями и великим муфтием.
Считалось, что во время таких обедов будут говорить о державных делах, но
Сулейман был всегда неприступно молчаливым, ел быстро, небрежно (обед
состоял всего из четырех блюд), будто он спешил и берег себя для ночных
уединений с султаншей.
женщина стремилась это знать и достигла успеха. Никто никогда не понимал
движений его сердца, она это делала всякий раз и пугала его своим
ясновидением, так что иногда он поглядывал на нее со страхом, вспоминая
упорные нашептывания о том, что Хуррем злая колдунья.
все же находились такие закутки, куда по-змеиному заползала
подозрительность, зловеще шипела, брызгала жгучей отравой. Тогда ярился
неведомо на кого, и, как бы чувствуя смятение в его душе, появлялась
валиде, которая была убеждена, что дом Османов без нее давно бы рухнул, а
поэтому все должна была знать, всем управлять, за всеми следить и
вынюхивать; предоставляя султану господство над телами, себе хотела
захватить власть над душами.
и он почти с ужасом смотрел, как изгибаются ее темные уста, прекрасные и в
то же время ядовитые, как змеи.
угомониться, даже получив себе в мужья самого великого визиря и любимца
султана, и кричала, что ей невмочь более терпеть в Топкапы эту колдунью,
эту славянскую ведьму, эту...
самом деле? Может, может...>
Баб-ус-сааде открывал лица всем женщинам, которые проходят в гарем? Ведь,
переодевшись женщиной, туда могут проникнуть злоумышленные юноши, и
тогда...
всех портных и служанок, которые проходят в гарем с воли, чтобы не
проносили они запрещенного или такого, что может...
за кушаньями, которые готовятся для султанши Хасеки и для обитательниц
неприступного гарема? Чтобы не допустить никакого вреда для драгоценного
здоровья ее величества...
крупа с неба, собиралось целыми кучами хлама, злые люди султановыми руками
выстраивали из тех отбросов стены недоверия, подозрений, оговоров,
сплетен, слежки и угроз вокруг Роксоланы, и она с каждым днем все острее и
болезненнее ощущала, как сжимаются те стены, будто вот-вот рухнут и под
своими обломками навеки похоронят и ее, и ее маленьких детей.
спасали. Поначалу молчала, не говорила султану ничего, а когда не под силу
стало молчать дальше и она пожаловалась султану, он холодно бросил:
заплакала, и он не мог унять ее слез, потому что на этот раз не знал как,
не умел, а может, и не хотел.
съесть те половинки Сулейману, и падишах запылал любовью к ней.
нарост, что свисает с умирающих деревьев, как взлохмаченная мужская
борода, и называется <целуй меня>. И она этим наростом должна была еще
больше приворожить султана.
Когда стали пытать этих бабок, они сознались, что несли косточки султанше,
ибо это сильнейший любовный талисман.
султанском ложе высушенные заячьи лапки - они должны были оберегать любовь
Сулеймана к Хуррем.
варившую любовное зелье для султанши.
не зарезанный, никто не знал, откуда взялся тот гусак и кто поставил котел
на огонь, но открыли люди великого визиря, что тем гусаком должны были
накормить султана, чтобы он навеки прикипел сердцем к Роксолане.
черной раме, и кто заглядывал в то зеркало, тот видел свою смерть и, не
выдерживая этого зрелища, отдавал аллаху душу.
листьев мышек, которые должны принести кому-то смерть.
будучи не в состоянии пробиться туда сквозь частокол молитв правоверных,
но как только султанша выезжает за пределы Стамбула, они обступают ее со
всех сторон, берут под охрану и наводят порчу на каждого честного
мусульманина, который бы имел неосторожность приблизиться к ведьме. Когда
султанша была с падишахом близ Эдирне, дьявол в оленьей шкуре кинулся на
падишаха, но тот застрелил его, и на месте оленя оказалась смердящая куча
дерьма.
плодовитостью Махидевран и всех султанских жен, самому же падишаху
насыпала в карманы гвоздиков, чтобы сделать его крепче в постели.
да шорох, снование теней, призраков и привидений и ненасытность тысяч
султанских холуев, словно бы их надо кормить не только чорбой и пловом, но
еще и суевериями, сплетнями и подозрениями.
отдавал повеления, и жирные евнухи у ворот гарема задерживали всех
портных, вышивальщиц, непревзойденных в умении изготовлять ароматные мази
арабок, грубо срывали с их лиц чарчафы, гоготали:
другой знали толк в женских украшениях, гречанки с редкостными тканями с
островов, венецианки с оксамитами и кружевами вынуждены были переодеваться
мусульманками, но обман грубо разоблачался, и всякий раз распространялись
слухи: <Снова поймали ведьму, которая несла что-то для султанши!> Как
будто в огромном Баб-ус-сааде жила одна Хуррем, не было ни валиде, ни
одалисок, ни множества старых уста-хатун, хазнедар-уста, служанок и
богатых рабынь.
алчно тянутся к твоему горлу, ты кричишь, просыпаешься - и нигде никого.
Или неизвестно чей окрик сквозь сон: <Настася!> - и снова просыпаешься, и
нигде никого, только ночь, мертвое сияние месяца и тишина, как на том
свете. Еще напоминало все это жуткие рисунки мусульманских художников,
которым Коран запрещал изображать людей и какие-либо живые существа:
стрелы, что летят из луков, которые никто не натягивает; никем не
управляемые и не нацеленные тараны, разбивающие стены; мечи, которые
секут, неведомо чьими руками удерживаемые.
может быть, теперь убедилась, что оговоры, поклепы и подозрения еще
страшнее неволи.
виновных. Султан не был ни ее защитой, ни надеждой в этой безнадежной
борьбе, - он сам все глубже и глубже увязал в трясине войны, начал ее в
первый год своего вступления на престол и теперь, пожалуй, никогда уже не
сможет закончить. Считал, что удалось ему загнать в трясину неразумного
венгерского короля, и не замечал, что сам увяз в глубоком, бездонном
болоте, попал на глубину.
Запольей, поставленным Сулейманом, и братом Карла Пятого Фердинандом
Австрийским. Народ же не хотел ни семиградского воеводу-предателя, ни
Габсбурга; как во времена Дьердя Дожи, снова из своих глубин выдвинул
святого, пророка и царя Йована Ненаду, и тот пошел против Яноша Запольи,
пугал магнатов, окрестивших его Черным Человеком, проходил по венгерской
равнине, как народная кара всем предателям и изменникам.
навести только он, сменив печать великого визиря на венгерскую корону, или
же по крайней мере их общий друг Луиджи Грити, посланный туда наместником





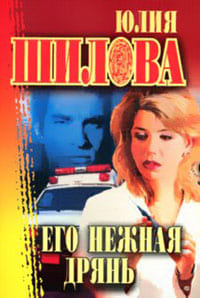
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Круз Андрей
Круз Андрей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Ларссон Стиг
Ларссон Стиг Афанасьев Роман
Афанасьев Роман