Алексей Зикмунд
ГЕРБЕРТ
Герберт сильно уставал от разговоров с родными. Когда бабушка начинала
рассказывать об отце, становилось ужасно скучно, оттого, что все это он уже
слышал не раз. Остановить бабушку было просто невозможно. Например, нужно
было закашляться, притвориться, что у тебя спазмы, или уронить этажерку,
или что-то разбить - чашку, тарелку, сделать что-то из ряда вон выходящее -
свистнуть в комнате, например. Герберту очень не нравилась сугубая
конкретность событий, вращающихся вокруг него, не нравилась уютная чистота
кухни - от нее веяло пустотой. Он любил старые карты, дуэльные пистолеты и
тонкие рапиры, - все это когда-то принадлежало дедушке Герберта - он был
адмиралом. Если бы мы имели возможность посмотреть на Герберта со стороны,
скажем, через окно или через щелку в двери, то, верно, сочли бы странным
нахождение этого хрупкого мальчика в комнате старого адмирала. На вид
Герберту можно было дать лет десять-двенадцать, на самом же деле ему было
уже четырнадцать. Матери он почти не помнил, но он знал, что она была не
дворянского рода и по национальности мадьярка, да к тому же еще и актриса
оперетты. Бабушка не могла погасить свою неодолимую ненависть к невестке -
она называла ее "ветреной". Герберту еще было трудно дать конкретное
определение этому слову, но он чувствовал, что это нехорошее слово. Бабушка
- высокая худая старуха с удлиненным лицом и сухими руками, сплошь
покрытыми густой сеткой морщин. В кабинет деда Герберт, как правило,
заходил поздно вечером; он смотрел в черный проем окна, гладил медные и
бронзовые предметы, стоящие на столе; ему казалось, что эти вещи, созданные
на рубеже веков, отдают ему свое тепло, накопленное за долгие годы. Медные
чернильницы, тяжелые каменные стаканы для карандашей, неуклюжий квадратный
пресс с головой орла - были бастионом на поле условных сражений с сутью
реального. До десяти лет он занимался только с учителем, затем был зачислен
в третий класс гимназии. С упоением вспоминалось лето перед началом учебы,
такое пасмурное и холодное, но такое счастливое. Герберт катался на
маленьком пони в поместьи фон Зайца, в то время как старый Зайц, друг деда,
рассматривал перелетных птиц в большую подзорную трубу, поставленную на
треногу. Фон Зайц содержал целый выводок маленьких пони, к концу лета они
очень привыкли к мальчику, и если Герберт ехал на каком-то одном, остальные
табунчиком ходили за ним. На территории поместья была расположена молочная
ферма. Так что к концу лета Герберт сильно поправился и стал напоминать
портрет юноши времен средневековья. От матери он унаследовал смуглость и
большие зеленые глаза. По вечерам, когда исчезало солнце, а синие сумерки
разворачивали бесконечную, с каждой минутой темнеющую ткань, он вместе с
хозяином поместья рассматривал старинные гравюры: лица китаянок и
мандаринов расцветали при электрическом свете, приобретая черты
потусторонние, словно это были персонажи из волшебного мира мертвых. На
ферме Герберт вставал рано, в комнате, где он жил, вовсе не было занавесок,
и солнце всегда одинаково будило его: сначала только легкий блик света
трогал угол подушки, а через несколько секунд золотая солнечная шпага
ударяла в переносицу и ослепляла. Перед его приездом фон Зайц специально
снял занавески в мансарде, чтобы молодой гость подолгу не проводил время в
постели. Утром он спускался вниз и шел в хозяйственную часть фермы, где под
навесом механик Франц уже возился с маленьким трехколесным "Катерпиллером".
Через некоторое время Франц садится в металлическое кресло, Герберт
устраивается рядом, и маленький трактор, кряхтя и фыркая, выкатывается в
поле. Солнце уже почти взошло. Трактор катит по полю, а из большого
веерообразного репродуктора, укрепленного на крыше флигеля, несется веселая
тирольская мелодия. Герберт жмурится от солнечных лучей, он стоит на
подножке трактора и опирается рукою на мускулистое плечо механика. Когда
Герберт устает стоять на подножке, он соскакивает на пашню и идет следом за
трактором, утопая в рыхлой земле. Но, несмотря на это косвенное единение с
природой, в общем-то Герберт был далек от реальности - ему не нравилась
полувоенная ситуация в стране, хотя большинство подростков от этого было в
восторге. 8 июня 1936 года Герберт лежал на большой деревянной кровати в
спальне отца и накручивал на указательный палец бахрому покрывала. Было
позднее утро, и сегодня Герберту исполнялось четырнадцать лет. Раньше,
когда в доме жил отец, и была прислуга, было достаточно потянуть за широкий
матерчатый пояс, висевший над кроватью, и кто-нибудь бы пришел. От этой
мысли избалованному вниманием Герберту почему-то сделалось грустно. Он
привык к тому, что мог шутя оперировать настроениями многих, не связанных
друг с другом людей, мог успокаивать или раздражать их, и в своем сознании
он, как всякая свободная точка вселенной, одновременно являлся и ее
центром. Было ему грустно еще и оттого, что отец находился далеко. Письма
из Швейцарии в светло-синих курортных конвертах приходили редко. Герберт -
жертва камерного воспитания - окруженный взрослыми людьми, души которых
давно перегорели, не находил себе места. Германия крепла вне его сознания:
яростные штурмовики с засученными рукавами, и в коротких штанах, и в
длинных, загорелые и бледные от работы в плохо проветриваемых помещениях;
люди с высокими лбами, внушающие себе по утрам перед зеркалом маниакальные
идеи общества стерильного функционализма, и тщедушные убогие уродцы со
сбитыми неправильностью построения чертами лица - вся эта разрозненная
правда настойчиво стучала в двери посольских особняков. Вечерами зловещая
черная масса, окруженная факелами, ползала по улицам древнего города.
Герберт встал с кровати, подошел к окну и распахнул его; он стоял у окна и,
как казалось, ни о чем не думал, потом сел в соломенную качалку, взял с
ломберного столика маникюрные ножницы и стал подрезать заусенцы. Тихое,
незаметное для посторонних, занятие Герберта тайно, по каким-то непонятным
человечеству связям, сопрягалось в его голове с воспоминаниями. Падали на
пол заусенцы, а в голове Герберта оживала панорама детской железной дороги.
Заводной паровозик вез четыре пассажирских вагончика. Состав кружил по
запутанным коммуникациям, которые Герберт и его друг Франц строили на полу
в течение целого часа. На подножке последнего вагона стояла деревянная
фигурка проводника с красным флажком в руке. "Почему игрушечный проводник
не выпадает из игрушечного вагона?" - подумал Герберт, сидя у открытого
окна, и эта мысль взбудоражила его. Он отбросил ножницы, встал и прошелся
по комнате. Мальчик Франц, с которым они четыре года назад играли в большом
зале фон Штралей, уже как два года жил с семьей в Нью-Йорке, и хотя, когда
он уезжал, они договаривались, что будут переписываться, тем не менее, два
коротких письма, посланные Гербертом, остались без ответа. Вспоминая
Франца, Герберт хмурился; он заходил на почту, спрашивал письма, но лишь
только он произносил слово "Америка", служащие отворачивались от него, а
если и отвечали - то что-то неопределенное и сквозь зубы. Герберт не
замечал, как Германия превращается в Третий Рейх. Часы, стоявшие рядом с
кроватью, сквозь стеклянный колпак показывали половину двенадцатого. Ярко
светившее солнце ушло с подоконника. Герберт выглянул в окно: навалившиеся
на Берлин серо- стеклянные тучи заволокли все обозримое пространство вплоть
до самого горизонта. Герберт вздохнул полной грудью и тут же почувствовал,
как в глубине его существа сорвалось с оси и покатилось маленькое золотое
колесико, - такое случалось всякий раз, когда ему что-либо не нравилось. От
громко звучавшей музыки сводило в горле, и колесико выходило из-под
контроля - от громких голосов оно тоже выходило из-под контроля. Когда
бабушка убирала его комнату, он начинал нервничать; если же в комнате
убирала служанка, то колесико начинало вращаться прямо - таки с отчаянием.
Внутри бегущего и невидимого времени произошли тайные изменения, и,
вероятно, не только у Герберта, но и еще у нескольких десятков людей в
Германии в эту секунду изменилось настроение. Может быть, оно изменилось
даже у Самого. Сам был далек от Герберта, да и Герберт был далек от него и,
вероятно, общение друг с другом не доставило бы им много радости. Приступы
душевной депрессии, накатывающиеся на Герберта, всеж-таки сильно отличались
от припадков бешенства, которым был подвержен Сам. И это - единственное,
что отдаленно сближало их. Несбалансированность натуры Герберта и
нерегулируемые припадки Самого - все это было слишком слабым звеном, чтобы
опираться на него как на основание для проведения параллели между двумя
людьми. Тем не менее, настроение, выставленное красной ртутью на шкале
условного термометра, побежало вниз. На низком столике, рядом с кроватью,
еще с вечера стоял длинный стакан с молоком; Герберт поднял его, понюхал и
сделал несколько глотков. Он вспомнил, как когда-то отец приходил к нему в
комнату с персиком или пирожным, садился на край кровати и смотрел, как
Герберт ест. Смотрел и гладил его по руке, и Герберту была непонятна
взволнованность отца. Теперь-то ему было ясно, что это был взгляд прощания
- ведь вскоре отец уехал. Подойдя к письменному столу, он выдвинул ящик и
достал оттуда прямоугольный конверт, затем вынул письмо и развернул его.
Любимый Герберт, я уже три месяца как без вас, а все никак не могу
привыкнуть. Герберт знал, что отец поехал лечиться, но что эта болезнь
неизлечима, он не знал и рассчитывал навестить отца в осенние каникулы, -
благо ехать было всего одну ночь, но сам он совсем не скучал. Отец чем-то
отпугивал Герберта. Он был человеком замкнутым и в редкие минуты общения,
когда оба оказывались за одним столом, некоторая неловкость все время
проскальзывала между ними. Герберту же очень нравились военные фотографии
отца, нравилась фотография матери, висевшая в его спальне. Он все время
пытался вспомнить ее живой, однако образ метался, лицо ее с трудом
удерживалось в памяти. "Мать твоя - фарфоровая кукла", - сказала однажды
бабушка, и ему стало обидно за маму, которую он видел всего два или три
раза. Он помнил, как, подлетая к Кельну, самолет бросало в воздушные ямы;
квадратный фюзеляж двенадцатиместного "Юнкерса", казалось, был готов
распасться, и когда шасси, наконец, заскользили по долгожданной полосе, он,
очень пугавшийся болтанки и не проронивший за время полета ни слова, - под
конец выдавил слезу. В деревянном флигеле аэропорта он увидел женщину,
вовсе не показавшуюся ему знакомой. Тем не менее она побежала к нему и
обняла его. Герберт же застеснялся и вытянул руки по швам. "Обними маму", -
сказал отец, и мальчик, преодолевая неловкость, обхватил рукой шею
незнакомой женщины. "Я твоя мама", - говорила она, словно жалея о чем-то.
Сейчас, после пяти лет разлуки, у него в голове с трудом удерживалось то



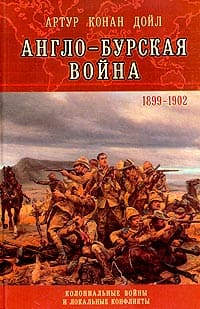

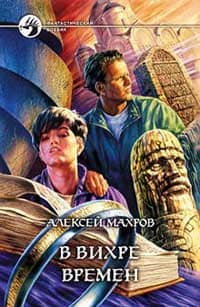
 Куликов Роман
Куликов Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Шилова Юлия
Шилова Юлия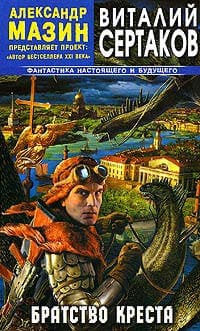 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман