Герберт отправил к крупье равнодушной рукой, и снова завертелся шарик, и
снова человечество наклонилось над столом; цифра четыре возникла за цифрой
семь. Ужас какой, жизнь выворачивает наизнанку. Теперь мне осталось
проиграть последние фишки и компанию можно закрывать. Пришел и проигрался
до тла - так пишут в аферных романах, решил Герберт и вытащил из правого
кармана последний свой шанс. День рождения фюрера должен был повернуть
вспять весь ход предрешенного проигрыша. Гитлеровский шар крутился очень
долго и выиграл. Герберт сгреб кучу денег. А ведь эти деньги принадлежат
партии, - подумал он священно действуя присовокупил выигранные бумажки к
уже имеющейся пачке. Проигрыш был уничтожен. Американцы смотрели на него с
восхищением - Поль похлопал его по плечу, а Кен потрепал по щеке. Денег он
выиграл много, но больше играть не мог - духа не хватило. Герберт вышел на
шикарную балюстраду игорного дома, и ветерок обдул его; затем он опустился
в шезлонг. Американцы благополучно просадили двести долларов и вернулись,
объятые отчетливым страхом перед дальнейшим проигрышем.
колес паровоза - они были аналогичны струйкам дыма, выносящимся на простор
мироздания из ноздрей сатаны на картинах живописцев средневековья. Герберт
покидал Швейцарию: он был пресыщен комфортом частного пансиона, но отнюдь
не хотел уезжать. Покой этой страны приковал к себе его душу, но уже
невесомость мгновений, находящаяся в тайниках сознания, переплавляясь в
тяжелую атмосферу родины. Сутулый отец напоминал ему птицу, вымершую много
лет назад. Птица стояла на одной ноге и смотрела туда, где в пространстве
космоса пунктиром вычерчивались конструкции будущих эпох. Разум птицы
многие годы был направлен внутрь себя, и вот теперь птица в образе отца все
знала и понимала, но ничего не могла поделать. Я хочу, чтобы ты остался,
Герберт, тебе будет лучше со мной, - говорила птица. Я почти не думал о
ней, - самозабвенно произнес Герберт, совершенно не обращая внимания на
отца. о ком ты говоришь, мальчик, - в свою очередь спросил тот, не понимая
сосредоточенной многозначительности сына. Ты спрашиваешь, о ком я говорю? Я
говорю о Бербель и говорю о ней сейчас, потому что все время, пока я тут
дурака валял и мелькал перед тобой я ни разу не вспомнил о ней. Герберт
конечно преувеличивал, - представь, папа, ни разу не вспомнил о ней, о
девушке, которая для меня интереснее любой настольной игры.
дышишь особенно шумно, по утрам я просыпался о этого, а потом не мог уснуть.
мешает тебе остаться?
паровоза, выпускающий из-под колес тонкие струйки пара. Вернусь домой, а в
следующем году, вероятно, приеду к тебе снова. Зачем ты едешь, Герберт,
ведь ты можешь остаться.
начала был уверен, что вернусь, и вот я возвращаюсь, - он слегка улыбнулся.
Отец выглядел ужасно беспомощно - болезнь скрутила его в бараний рог, он
стоял почти качаясь от легкого ветра, а на против, рядом с подножкой
вагона, стоял здоровенный проводник со значком национал-социалиста. Фуражку
он надвинул на самые брови, солнце обжигало его незатейливое лицо, грудь
распирало от воздуха, и возвращение домой он воспринимал почти как победу
над врагом. У проводника не было никаких болезней, он был здоров как
племенное животное. До отправления поезда осталось несколько минут. Отец
нагнулся и поцеловал Герберта в щеку - щека была теплая и это обрадовало
его.
тебе недели на две, обязательно приеду, сам он едва ли верил в то, что
говорил. Уезжать ему ужасно не хотелось, но он не знал как остановить
время, как повернуть его вспять. Проводник стал приглашать прогуливающуюся
по перрону публику в вагон. И вот паровоз дернул состав, лязгнули буфера,
поезд медленно покатился. Германия ждала своих сыновней. Герберт на ходу
поднялся в вагон и махнул рукой. Отец выглядел удручающе, руки его как
плети висели вдоль туловища; на миг Герберта посетило желание спрыгнуть, и
почему-то он этого не сделал, жалкий отец становился все меньше, пока
совсем не скрылся из глаз.
любитель темноты. Он поморщился, но говорить что-либо этому высокому и
видимо желчному человеку, читающему журнал, он не стал; он закрыл глаза и
уселся на свой диванчик. Человек два раза смотрел на него поверх очков и
оба раза ничего не сказал. Герберт вышел в коридор, вынул пачку Честерфилда
и закурил. Пожилая пара проходя по коридору, поглядела на него, а он
демонстративно выпустил в потолок струйку дыма. Только уже в самом Бардине,
выпив в вагоне-ресторане чашку крепкого кофе, Герберт наблюдал, как состав
медленно втягивался под высокий купол вокзала - он еще сидел за столиком, а
пассажиры уже выскакивали на перрон. Вышел он с легким чемоданчиком, в
котором лежало двадцать американских джазовых пластинок и десять пачек
сигарет, еще там лежало старинное китайское блюда - подарок американцев; на
блюде был нарисован многокрылый дракон с милой женской головкой. Поскольку
голова женщины была выписана особенно тщательно, с изяществом присущем
просвещенной Европе восемнадцатого века, то он предположил, что тарелка
могла быть сделана не только в Китае. Герберт шел, раскачивая чемоданчиком,
в голове его проносились стремительные мысли: кое-что от разлуки с отцом,
кое-что о Бербель, и кое-что о самой Германии, в которой ему предстояло
жить. Конечно, за границей чувствуешь себя несколько спокойнее и устаешь
там меньше, и мысли прозрачные - может быть, это следствие того, что родина
издавна проецирует на себя любовь, рожденную за границей. Герберту было
ужасно жалко себя. Жалко, что Швейцария не моя родина, хотя наверно будь я
швейцарцем, я бы был недоволен собой так же, как и сейчас. В вестибюлю
вокзала он поставил чемоданчик на пол, размышляя о том, что ему сделать в
первую очередь. Позвонить домой и потом позвонить Бербель, или сразу
поехать домой и никому не звонить. Или позвонить Бербель, а потом поехать
домой. Выйдя из вокзального павильона Герберт направился к стоянке такси и
сел в последнюю машину. На Альберт-штрассе он увидел выбитые витрины, на
осколках витрин краской были нарисованы шестиугольные звезды.
недоуменно спросил он?
вытянутую физиономию шофера.
и визгливо расхохотался - он хохотал как Мифестофель, от его хохота
сотрясался маленький опель.
неожиданным поведением подростка. Я вспомнил, как эти скоты лазили у меня в
чемодане, а потом они увидели пластинки.
которую тот из робости не сразу поддал ему.
какие по теории относительности все же должны встречаться, либо просто
сумасшедший
ключом дверь. На первом этаже повсюду горел свет, это было весьма странно,
потому что бабушка свет за собой всегда тушила. Ему же нравилось со стороны
смотреть на залитый электричеством дом, когда задернутые красными
занавесками окна казались объятыми пламенем пожара.
один из последних дней. Сигареты он спрятал за книги, затем подошел к
радиоле и поднял деревянную крышу. Герберт закурил, подошел к окну и открыл
его. Было темно, в окнах дома напротив ярко горела люстра. Холодный свет ее
показался Герберту безжизненным. За тюлем двигались очертания неизвестных
мужчин и женщин. Холод Родины притягивает к себе, хотя в общем ничего не
изменилось. Я должен был вернуться, хотя почему это должен был. Никому я
ничего не должен, просто смешно даже, откуда такие мысли берутся, как будто
их насильно в голову запихивают.
Герберт докурил сигарету и потушил окурок. Кончилась пластинка, щелкнул
звукосниматель. Он услышал, как бабушка поднимается по лестнице. Герберт
метнулся к окну, закрыл его, потом бросил пачку сигарет на пол и толкнул ее
под диван, затем он рывком снял с полки альбом с картами наполеоновских
войн и уселся в кресло. Мальчик мой, что же ты спрятал от меня, я из ванной
услышала музыку и поняла, что ты приехал. А почему ты сидишь в темноте -
это портит глаза. Начинается чертовщина, - подумал он и посмотрел на
бабушку невидящим взглядом. Бабушка повернула выключатель торшера и карта
наполеона вспыхнула так, как будто к ней поднесли горящий факел. Она
расспрашивала его о поездке, а он отвечал не задумываясь над тем, что
произносит. Бербель вероятно забыла его может не совсем, - увидит,
вспомнит, но наверняка его лицо представляется ей весьма расплывчато. До






 Шилова Юлия
Шилова Юлия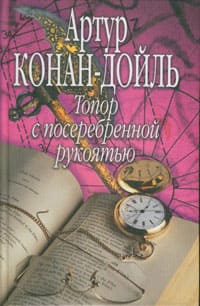 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур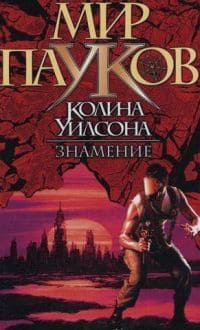 Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис Афанасьев Роман
Афанасьев Роман