внимание перескочило на белый спортивный кабриолет, который потянул его
снова вправо вдоль по улице, где соломенная шляпка между тем уже исчезла --
напрасно глаз искал ее в толпе прохожих, в море шляпок, и зацепился за розу,
которая покачивалась на совершенно другой шляпке, оторвался, в конце концов,
снова упал на ребро ступеньки, но так и не смог успокоится, неутомимо
скользил дальше, от точки к точке, от пятнышка к пятнышку, от линии к
линии... Казалось, что воздух сегодня дрожит от жары, как это бывает только
в полуденные часы в самые жаркие дни июля. Прозрачная пелена, через которую
были видны предметы, дрожала. Контуры зданий, линии крыш, коньки были
очерчены кричаще четко и в то же время расплывчато, словно они обтрепались.
Каменные сточные желобки и пазы между каменными плитами тротуара -- обычно
словно проведенные под линейку -- змеились блестящими кривыми линиями. И
женщины, казалось, одели сегодня все свои невыносимо яркие одежды, они
проплывали мимо словно языки пламени, притягивали к себе взгляд, но долго на
себе не задерживали. Все имело расплывчатые очертания. Не на чем было
уверенно сосредоточить свой взгляд. Все будто мерцало.
Это глаза, подумал Джонатан. За ночь я стал близоруким. Мне нужны очки.
В детстве он как-то должен был носить очки, слабые, минус ноль семьдесят
пять диоптрий, для левого и правого глаза. Так бывает очень редко, чтобы
близорукость возникала снова в зрелом возрасте. Он читал, что с возрастом
становятся скорее дальнозоркими, а имеющаяся близорукость уходит. Может то,
чем он страдает, это вовсе не классическая близорукость, а что-то такое,
чему очками уже не поможешь: катаракта, глаукома, отслоение сетчатки, рак
глаза, опухоль в мозгу, которая давит на зрительный нерв...
Он был так занят этими ужасными мыслями, что до его сознания не сразу
дошел повторяющийся сигнальный гудок автомобиля. Его звуки становились все
длиннее -- он услышал, отреагировал и поднял голову лишь с четвертого или
пятого раза: перед решеткой ворот действительно стоял черный лимузин мосье
Редельса! Пока ждали еще какое-то мгновенье, просигналили еще и даже
поманили жестом. Перед решеткой ворот! Лимузин мосье Редельса! Когда ж это
он прозевал его приближение?
Обычно ему не нужно было даже смотреть, он чувствовал, что автомобиль
едет, он слышал это по звуку двигателя, если бы он даже спал, то при
приближении лимузина мосье Редельса он схватился бы, словно пес.
Он не поспешил, он ринулся со всех ног -- летя, он чуть не зарыл носом,
-- он открыл ворота, сдвинул решетку назад, поприветствовав и пропустив
лимузин, он почувствовал, как колотится у него сердце и как постукивает рука
о козырек фуражки.
Закрыв ворота и вернувшись назад к главному порталу, он почувствовал,
что весь мокрый от пота "Ты прозевал лимузин мосье Редельса, -- бормотал он
себе под нос дрожащим от отчаяния голосом и повторял, будто сам никак не мог
осознать этого: -- Ты прозевал лимузин мосье Редельса... ты прозевал его, ты
не сработал, ты отнесся к выполнению своих обязанностей с грубейшим
пренебрежением, ты не только слеп, ты глух, ты опустившийся и старый
человек, ты не годишься больше в охранники".
Он добрался до самой нижней ступеньки мраморной лестницы, взобрался на
нее и попытался снова стать в свою обычную позу. Он сразу же заметил, что
это ему не удается. Он больше уже не мог держать плечи прямо, руки болтались
по шву брюк. Он знал, что его фигура в этот момент выглядит смешно, и ничего
не мог с этим поделать. С тихим отчаянием глядел он то на тротуар, то на
кафе напротив. Дрожание воздуха прекратилось. Все вокруг пришло в порядок,
линии выпрямились, мир в его глазах прояснился. Он стал улавливать уличный
шум, шипение автобусных дверей, голос официанта из кафе, постукивание
женских туфель на высоком тонком каблуке. Ни острота его зрения, ни слух
нисколечко не ослабели. Но пот заливал глаза. По всему телу он ощущал
слабость. Он развернулся, поднялся на вторую ступеньку, поднялся на третью и
стал в тени вплотную к колонне рядом с внешней дверью из пуленепробиваемого
стекла. Он заложил руки за спину, так что они касались колонны. Затем он
осторожно откинулся назад, на собственные руки и на колонну, и прислонился,
впервые за всю свою тридцатилетнюю службу. И на пару секунд прикрыл глаза.
Так ему было стыдно.
В обеденный перерыв он достал из гардероба чемодан, пальто и зонтик и
направился на близлежащую Рю Сен-Плясид, где располагалась маленькая
гостиница, в которой проживали, в основном, студенты и иностранные рабочие.
Он потребовал самую дешевую комнату. Ему предложили одну за пятьдесят
франков, он взял ее, не посмотрев, заплатил наперед, оставил свои вещи у
регистратора. В ларьке он купил пару булочек с изюмом, пакет молока и
отправился в Скуар Букико, маленький парк перед универмагом "Бон Марше".
Устроившись в тени на скамейке, он начал есть.
В двух скамейках от него расположился бродяга. Между бедер он держал
бутылку белого вина, в руке -- половину длинной булки, рядом с ним на
скамейке лежал кулек с копчеными сардинами. Бродяга вытаскивал из кулька за
хвост сардины, одну за одной, откусывал им головы, выплевывал их, оставшееся
целиком отправлял прямо в рот. Затем -- кусок булочки, большой глоток из
бутылки и вздох блаженства. Джонатан знал этого человека. Зимой он всегда
сидел перед входом в склад универмага на решетке котельной, расположенной в
подвале; летом -- перед лавкой на Рю де Севр, или в подъезде иностранной
миссии, или же рядом с почтамтом. Уже несколько десятков лет он обитал в
этом квартале, столько же, сколько и Джонатан. И Джонатан вспомнил, что
тогда, тридцать лет тому назад, когда он впервые увидел его, в нем вскипела
какая-то жгучая зависть, зависть к той беззаботности, с какой живет этот
человек. В то время, когда Джонатан каждый день ровно в девять заступал на
службу, бродяга часто появлялся лишь в десять или одиннадцать; в то время,
когда Джонатану приходилось стоять навытяжку, тот устраивался, удобно
развалившись на куске картона, и покуривал себе; в то время как Джонатан,
час за часом, день за днем и год за годом охранял, рискуя своей жизнью, банк
и таким образом зарабатывал себе на жизнь, тот парень не делал ничего, а
полагался лишь на сочувствие и заботу ближних, которые бросали в его шапку
наличную денежку. И казалось, что он никогда не бывает в плохом расположении
духа, даже тогда, когда шапка оставалась пустой, казалось, что он никогда не
страдает и не злится, и даже не скучает. От него всегда исходила
возмутительная самоуверенность и самодовольство, вызывающе выставленная на
всеобщее обозрение аура свободы.
Но как-то потом, в середине шестидесятых, осенью, когда Джонатан заходил
на почтамт на Рю Дюпен, перед входом он чуть не споткнулся о винную бутылку,
стоявшую на куске картона между пластиковым пакетом и хорошо знакомой шапкой
с парой монет внутри, и когда он, поискав какое-то время глазами бродягу, и
не потому, что он жалел об отсутствии этого человека, а просто потому, что в
этом натюрморте из бутылки, пакета и картона отсутствовала центральная
фигура... нашел его устроившимся между двумя припаркованными на
противоположной стороне улицы автомобилями и увидел как тот справляет свою
большую нужду: он сидел на корточках со спущенными до колен штанами рядом со
сточным желобком, своим задом он был повернут к Джонатану, и зад был
полностью голый, мимо спешили прохожие, его мог видеть любой: неестественно
белую, покрытую синюшными пятнами и красноватыми следами отслоившихся
струпьев задницу, которая выглядела такой старой, словно задница прикованной
к постели старухи -- при этом человек этот был не старше тогдашнего
Джонатана, вероятно тридцать, максимум -- тридцать пять лет. И из этой
старческой задницы на мостовую хлестала струя коричневой супообразной
жидкости, с невероятной силой и в жутком количестве, образовалась лужа,
озеро, окружавшее ботинки, а летящие в разные стороны брызги запачкали
носки, ноги, брюки, рубашку, да все...
Это зрелище было настолько жалким, настолько ужасным и от него так
тошнило, что Джонатан по сей день содрогался даже при простом воспоминании о
нем. Тогда, после непродолжительного созерцания этого кошмара, он
ретировался в спасительный почтамт, оплатил свой счет за электричество,
купил еще марок, хотя они и не были ему нужны, а только для того, чтобы
затянуть свое пребывание здесь и быть уверенным, что, выходя из почтамта, он
больше не увидит того бродягу обделывающим свои делишки. А затем, выходя, он
плотно зажал глаза, опустил взгляд и заставил себя не смотреть на
противоположную сторону улицы, а только строго влево, вдоль Рю Дюпен, туда
он и поспешил, налево, хотя он там ничего не забыл, а только для того, чтобы
не пришлось проходить мимо того места с бутылкой вина, картоном и шапкой,
ему пришлось сделать большой крюк через Рю дю Шерш-Мипо и бульвар Распай,
прежде, чем он достиг Рю де ля Планш и своей комнаты, надежного убежища.
С этого часа из души Джонатана исчез даже намек на чувство зависти к
бродяге. Если до тех пор время от времени в нем шевелилось слабое сомнение,
есть ли смысл в том, что человек треть своей жизни проводит, стоя перед
воротами банка, открывая периодически ворота и приветствуя лимузин
директора, всегда одно и то же при маленьком отпуске и мизерном жалованье,
большая часть которого бесследно исчезает в виде налогов, платы за жилье и
взносов на социальное страхование... есть ли во всем этом смысл -- то теперь
ответ стоял у него перед глазами со всей отчетливостью той ужасной картины,
которую он увидел на Рю Дюпен: да, смысл есть. Да еще какой, ведь он
избавляет его от необходимости обнажать свой зад в общественном месте и
справлять свою нужду прямо на улице. Есть ли что-нибудь жалче, чем
необходимость обнажать свой зад в общественном месте и справлять нужду на
улице? Есть ли что-нибудь более оскорбительное, чем эти спущенные штаны, эта
скрюченная поза, эта вынужденная отвратительная нагота? Есть ли что-нибудь
беспомощнее и унизительнее, чем позыв обделать свои интимные делишки на
глазах у всего мира? Нужда! Уже в самом этом слове есть что-то мучительное.
И как все, что приходится делать под давлением неумолимого позыва, она, дабы
быть вообще сносной, требует полного отсутствия других людей... или, по
крайней мере, видимость их отсутствия: лес, если находишься на природе;
куст, если прихватило в открытом поле, или хотя бы борозда, или вечерние
сумерки, или, если ничего этого нет, хорошо просматриваемая на добрый
километр вокруг местность, на которой никого не видно. Но в городе? Набитом
людьми? Где вообще никогда не бывает полностью темно? Где даже заброшенный
земельный участок с развалинами на нем не обеспечивает надежное укрытие от






 Василенко Иван
Василенко Иван Шилова Юлия
Шилова Юлия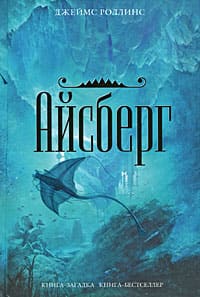 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Емилина Ника
Емилина Ника Земляной Андрей
Земляной Андрей